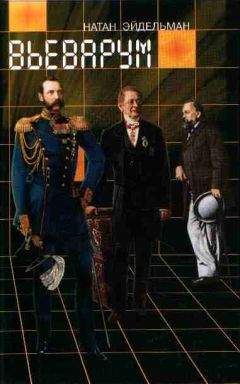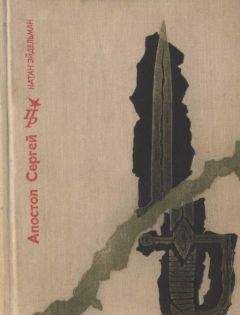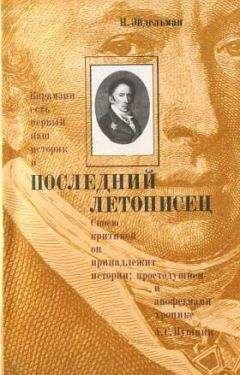Еще через одиннадцать без малого месяцев, 26 мая 1799 года, в Москве у майора Сергея Львовича Пушкина родился второй ребенок — сын Александр.
Императором был Павел I, но во второй столице, несмотря на управление губернатора Архарова (оставившего русскому языку словцо "архаровец"), было сравнительно спокойно. Пока мальчики достигли, не ведая друг о друге, лицейского возраста, павловские дни сменились александровскими, Наполеон завоевал полмира, русское войско побило шведов, турок и персов, Крылов написал «Квартет» и "Демьянову уху", Державин бросил оды и принялся за драмы, Радищев отравился…
Потом мальчики покинули дома-теплицы, надели синие мундиры, белые панталоны, треугольные шляпы, познакомились — и началось их время.
Эти трое будут сейчас нашими героями. Следуя за ними, мы коечто узнаем, а также остановимся перед некоторыми тайнами…
Самые ранние из всех известных строк, написанных рукою Пушкина, находятся в альбоме тринадцатилетнего Александра Горчакова.
"Вы пишете токмо для вашего удовольствия, а я, который вас искренне люблю, пишу, чтоб вам сие сказать. А. Пушкин".
Одноклассник выразил чувства переводом из старинного французского сочинения.
Горчаков нравился многим лицейским, им гордились: везде первый, умен, хорош, князь — Рюрикович, — но свой, не чванится. Кто же не встречал таких первых учеников — красивых повес, лидеров, тех, кто в укромном уголке описывает свои невероятные приключения и фантастические победы, однокашники же посмеиваются, притворяются, будто не верят, и завидуют!..
Но дадим слово третьему лицеисту:
"Я слышу: Александр Пушкин! — Выступает живой мальчик, курчавый, быстроглазый, тоже несколько сконфуженный. По сходству ли фамилий или по чему другому, несознательно сближающему, только я его заметил с первого взгляда".
Позже сходство фамилий "Пущин — Пушкин" стало угрожающим. После 14 декабря следователи не раз спотыкались об это созвучие, интересовались: "Не Пущин ли Пушкин?" Ведь Иван Пущин и его брат Михаил сидели в крепости.
До крепости пока что было пройдено только полдороги. Впрочем, уже смеялись над несчастливым номером комнаты: "Над дверью была черная дощечка с надписью: № 13 Иван Пущин; я взглянул налево и увидел № 14 Александр Пушкин". В числа любили играть — всю жизнь подписывали письма друг другу лицейскими номерами. Начальство же обожало выстраивать их сообразно успехам: № 1-й (из 30 возможных) Горчаков или Вольховский. Пущин шел 18-м, Пушкин — 19-м, а иногда и ниже.
Пускай опять Вольховский сядет первой,
Последним я, иль Брольо, иль Данзас…
Но эту "Табель о рангах" лицейская «скотобратия» порою отвергает решительно и демократически:
Этот список сущи бредни,
Кто тут первый, кто последний,
Все нули, все нули,
Ай люли, люли, люли…
Когда же Пущин, Пушкин и Малиновский за незаконную пирушку смещены на последние места за столом, их жизненная философия обогащается внезапно великим открытием — "чем хуже, тем лучше": именно здесь, в конце стола, дежурный гувернер раздает еду —
Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе;
Как лексикон,
Растолстеет он.
Не тако с вами —
С первыми скамьями,
Но яко скелет
Будете худеть…
Стихи неведомого и совсем не гениального лицейского сочинителя.
Если кинуть на Лицей современный, стporo научный педвзгляд, то Лицей — это черт знает что! Прежде всего — вообще неясно, что это такое. Лучшее определение дано было петербургским генерал-губернатором графом Милорадовичем: "Лицей — это не то, что университет, не то, что кадетский корпус, не гимназия, не семинария, это… Лицей!"
Два-три дельных воспитателя (Малиновский — отец, Куницын), несколько образованных, безразличных педантов, дядька Фома с выпивкой, служитель Сазонов — убийца, инспектор и временный директор полковник Фролов — солдафон.
Если бы лицейские узнали, что Горчаков как-то написал домой: "У нас новый инспектор Степан Степанович Фролов, кавалер ордена св. Анны 2-й степени и св. Владимира 4-й степени, почтенный человек, очень ко мне благосклонный", — если бы лицейские узнали, то веселились бы сильно и князю, дабы не оплошать, пришлось бы участвовать в «Звериаде» и подпевать куплетам:
Ты был директором Лицея,
Хвала, хвала тебе, Фролов.
Теперь ты ниже стал Пигмея,
Хвала, хвала тебе, Фролов!..
(Новым директором прислан Егор Антонович Энгельгардт, Фролов понижен; «Пигмей» один из наставников.)
Аккуратнейший лицеист Модест Корф (он же «Модинька» или "Дьячок Мордан") много позже признавался, что не понимает, каким образом из такого заведения вышло столько достойных людей и как из такого букета шалостей и пороков вышло столько дельного…
Вот портрет Пущина, "Большого Жанно" или "Ивана Великого", составленный только по лицейским пушкинским стихам: Жанно — "ветреный мудрец", мудрость же в том, что он прост, здоров ("ты вовсе не знаком с зловещим Гиппократом"), что
…счастлив, друг сердечный,
В спокойствии златом течет твой век беспечный.
В отличие от многих Пущин не "марает листы", не сочиняет стихов. Пожалуй, главный «знак» его — чаша: "мой брат по чаше", "старинный собутыльник", но притом он один из самых чистых и честных. Кажется, пущинская прямота порою бесит молодого Пушкина, не всегда готового к признанию правдивой критики:
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальем
И тотчас помиримся!
Этот переход от ссоры к миру, видимо, бывал особенно хорош, и при расставании Пушкин снова припомнит "размолвки дружества и сладость примиренья".
Так же вычисляем Горчакова ("Князь", «Франт», впрочем, твердого прозвища как-то не было): "приятный льстец, язвительный болтун", "остряк небогомольный", "философ и шалун". Ему адресованы три послания Пушкина, и хотя они очень разные и отделены друг от друга целыми эпохами (время от 15 лет до 18 и от 18 до 20 важнее целых десятилетий зрелости и старости), однако один мотив слышится во всех трех: Горчаков — умный, блестящий, добьется многого, но эти успехи пусть воспоет какой-нибудь "поэт, придворный философ", который "вельможе знатному с поклоном подносит оду в двести строк…".