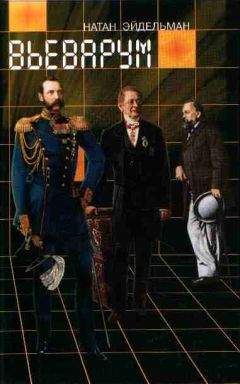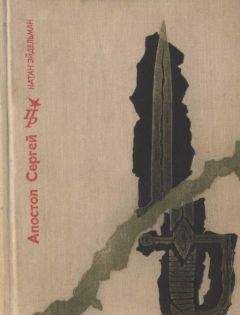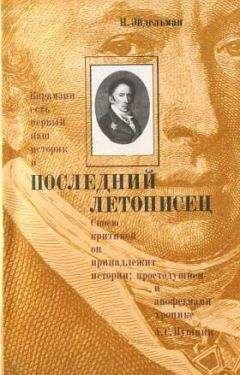Грядущие "кресты, алмазны звезды, лавры и венцы" — пустяк:
Дай бог любви, чтоб ты свой век
Питомцем нежным Эпикура
Провел меж Вакха и Амура!
"Знак Горчакова" — стрела Амура…
Пушкин как будто боится, что Горчаков изменит любви и оттого будет не Горчаков.
О, скольких слез, предвижу, ты виновник!
Измены друг и ветреный любовник.
Будь верен всем…
Горчаков же определил свое будущее еще задолго до окончания Лицея. Дядюшке Пещурову пишет:
"Без сомнения, если бы встретились обстоятельства, подобные тем, кои ознаменовали 12-й год… тогда бы и я, хотя не без сожаления, променял перо на шпагу. Но так как, надеюсь, сего не будет, то я избрал себе статскую и из статской, по вашему совету, благороднейшую часть — дипломатику".
Еще через месяц:
"Директор наш г. Энгельгардт, который долго служил в дипломатическом корпусе, взял на себя несколько приготовить нас к должности… По сие время нас четыре — он будет задавать нам писать депеши, держать журнал, делать конверты без ножниц, различные формы пакетов и пр. и пр., словом, точно будто мы в настоящей службе; приятно знать даже эти мелочи, как конверты и пр., прежде нежели вступить в должность".
А Пущин в это же время готовится к будущему несколько иначе:
"Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую составляли тогда Муравьевы (Александр и Михаило), Бурцев, Павел Колошин и Семенов. С Колошиным я был в родстве. Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о невозможности изменения, желаемого многими втайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком: я сдружился с ним, почти жил в нем. Бурцов, которому я больше высказывался, нашел, что по мнениям и убеждениям моим, вынесенным из Лицея, я готов для дела… Эта высокая цель жизни моей самой своей таинственностию и начертанием новых обязанностей резко и глубоко проникла в душу мою — я как будто вдруг получил особенное значение в собственных своих глазах…"
Пушкин, как известно, не был посвящен в тайну первых декабристских сходок: "Подвижность пылкого его нрава, сближение с людьми ненадежными пугали…" Пушкин подозревал, но полной уверенности не имел: Большой Жанно, конечно, говорил "о зле" и "возможности изменения…", но при этом готовился к военной службе и, вероятно, разговоры о будущем сводил к тому, что мечтает быть дельным, полезным для службы и солдат офицером.
И, разумеется, в Пущина (хотя и не в него одного) метят прощальные насмешки из № 14:
Разлука ждет нас у порогу,
Зовет нас дальний света шум,
И каждый смотрит на дорогу
С волненьем гордых, юных дум.
Иной, под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул —
В крещенской утренней прохладе,
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул…
И не в Горчакова ли следующие строки:
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, а почести любя,
У шута знатного в прихожей
Покорным шутом зрит себя…
А сам о себе:
Лишь я, судьбе во всем послушный,
Счастливой лени верный сын,
Душой беспечный, равнодушный,
Я тихо задремал один…
Равны мне писари, уланы,
Равны законы, кивера,
Не рвусь я грудью в капитаны
И не ползу в асессора…
Если пофантазировать, легко представить спор троих товарищей перед выходом в большой свет — о счастье, смысле жизни. Горчаков и Пущин в этой воображаемой сцене говорят о благородной, честной службе, причем Пущин намекает и на особенное служение отечеству. Оба упрекают поэта за легкомыслие, и Горчаков, пожалуй, заметит что-нибудь вроде: "Пушкину хорошо, он полагается на свой талант, мы же — только на самих себя".
Пушкин охотно соглашается с упреками:
Среди толпы затерянный певец,
Каких наград я в будущем достоин
И счастия какой возьму венец?
Но потом начинает шутить, задираться и, как бывало, грозить друзьям, что сделает их виноватыми, если появится грозный наставник… Потом Пушкин уйдет, и Пущин обязательно намекнет князю-франту насчет тайного общества. Однако Горчакову это не подходит — он скажет, что нужно делать карьеру, то есть выдвигаться вперед: не для корысти, а для более полного выявления своих способностей во благо общее. Горчаков мог бы, смеясь, попросить друга Жанно, чтобы в случае успеха его партии было сделано снисхождение лицейским — все назначены на приличные должности или, на худой конец, отправлены в какую-нибудь ссылку потеплее… Потом потолковали бы о Пушкине — станет серьезнее или нет? — и, скорее всего, Пущин вспомнит, что Горчаков торжественно конфисковал озорную поэму «Монах» и уничтожил как не достойную пушкинского таланта.
Ах, как легко и небрежно летели в камин, в корзину, терялись те листки, на розыски которых в наше время ученые тратят тысячи, десятки тысяч «человеко-часов» и дней!
Сохранился отзыв Жуковского об адресованном ему лицейском послании юного Пушкина: "Прекрасное… лучшее произведение". Отзыв сохранился, а послание исчезло…
Существовала стихотворная речь, обращенная к друзьям из литературного общества «Арзамас». Арзамасцы запомнили только первую строчку: "Венец желаниям! Итак, я вижу вас…" — остальное неизвестно…
Была сочинена целая драма "Фатам, или Разум человеческий", от которой чудом уцелели четыре стиха. Или дерзкие эпиграммы, из которых, кажется, половины не знаем; регулярно сочинялись опасные ноэли, рождественские песенки, сохранился же только один (да и то в списках) — о царе Александре I: "Ура! В Россию скачет кочующий деспот!" Впрочем, это уже не те листки, которые терялись, исчезали от беспечной небрежности… Тут начинается конспирация: спасение от жандарма, крепости, Сибири. Устав первой декабристской тайной организации — "Союза Спасения"; "Зеленая книга" — секретная программа другого декабристского общества, "Союза благоденствия"; о них мы знаем понаслышке, по уклончивым, приблизительным рассказам тех, кто читал, а после спрятал или сжег…