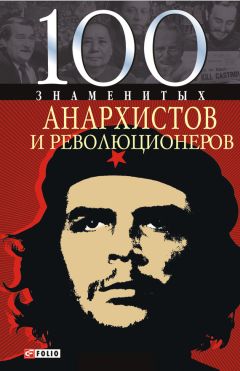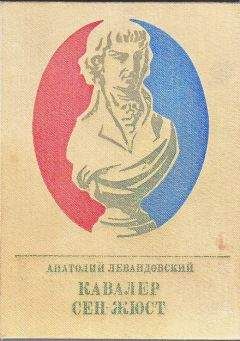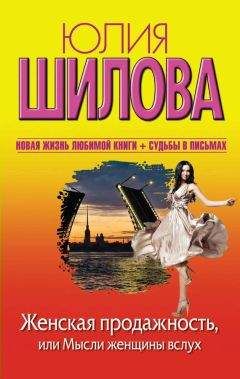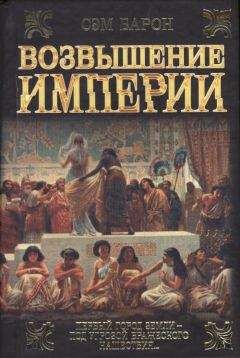Возрождение клубов привело к тому, чего Париж не видел уже около двух лет, – к уличным беспорядкам: яростные речи ораторов Манежа вызвали контрреволюционную агитацию; появились опять остатки золотой молодежи, мюскадены, или, вернее, их младшие братья, приятные и любезные (les agréables, les aimables du jour). Между молодыми парижанами самых различных классов установилось какое-то сообщества с целью палками выколотить революцию из якобинцев и кулаками удержать общество от возвращения к злодейскому режиму. Когда прошли золотые времена термидорской реакции, мюскадены переменили имя и отчасти костюм; многие из них поступили на службу в армию; опустевшие места заняли другие, помоложе. Под суровым гнетом фрюктидорского режима они притаились и замерли; брожение умов, наступившее после 30 прериаля, как бы воскресило их.
Общественное мнение и мода были за них; в эту эпоху, когда физическая сила была особенно в чести, “дуть якобинцем” было одним из способов выказать силу своих мускулов и солидность своих принципов, занятием похвальным и почтенным, – спортом, как сказали бы нынче. Молодежь снова вернулась к атрибутам своей прежней профессии: “черным и фиолетовым воротникам” на “старых фраках”,[211] широкополым фетровым шляпам со стальными пряжками, широчайшему батистовому галстуку, образующему зоб под подбородком, дубинке или “трости-шпаге” под мышкой, пистолетам в кармане, – и в этом наряде, придирчивая и задорная, снова повела кампанию против якобинцев. Ряды ее пополнялись смутьянами иного рода. В закоулках Парижа ютилось целое население шуанов не у дел, тайком прокравшихся в столицу, авантюристов роялистского закала и праздношатающихся контрреволюционеров. Эта белая накипь теперь всплыла на поверхность одновременно с красной. Различные элементы смуты уже начинали сталкиваться между собою.
По точным и подробным рассказам очевидцев легко себе представить Париж в этот период мелких войн, причинивших больше страха, чем зла. Главная квартира агитаторов правой находилась в бывшем Пале-Рояле, а теперь дворце Равенства. Бродя по шумным галереям, кипящим лихорадочной жизнью, изобилующим проститутками и всеми видами контрабандного торга, они группируются, воодушевляются, точат языки, готовя своим противникам ядовитые стрелы сарказма. Затем, через улицу Онорэ и лабиринт переулков, сомкнутыми рядами направляются туда, где собираются якобинцы для метания громов против правительства и выполнения обрядов своей религии. Осаждающие, внезапно вынырнув из сквозных коридоров из сада, окружают Манеж и устраивают блокаду.
22 мессидора якобинцы торжественно посадили во дворе Манежа дерево свободы; из-за этого пошла перебранка, а затем и драки. На другой день вечером враждебная толпа заняла ближайшие к зале позиции: террасу фельянтинцев наверху и внизу – аллею Апельсиновых деревьев. Как только окончилось заседание, и члены клуба вышли, распевая патриотические песни, с террасы их приветствовали гиканьем и свистками; камни полетели в окна залы. На крик: “Долой тиранов!” эти последние отвечали: “Долой гильотину, долой якобинцев!” Внезапно раздались крики: “Да здравствует король!”
У всех выходов завязалась свалка. В аллее манифестанты, вскарабкавшись на кадки с апельсиновыми деревьями, бросали оттуда камни; другие ломали стулья и обломками колотили якобинцев, проходивших вблизи. Стон стоял по всему саду; буржуа, пришедшие подышать свежим воздухом, их дамы в длинных газовых платьях-футлярах и шляпах из цветов, кидались врассыпную; в аллеях была страшная давка; мужчины, женщины и дети опрокидывали друг друга.[212] Появилась стража законодательного корпуса и обрушилась на манифестантов. Некоторые были жестоко избиты, двадцать восемь человек арестовано по обвинению в явном подстрекательстве к бунту и требованиях возвращения короля; среди последних было меньше экс-дворян, чем молодых буржуа, и даже мелких торговцев и лавочников. Следствие выяснило, что аресты производились наскоро и без разбора.[213]
Стычка повторилась и на второй, и на третий день, к великому огорчению гуляющих, “которые уходили весьма недовольные”.[214] Власти сочли нужным принять некоторые меры предосторожности: в каждой казарме ждал начеку пикет в сто человек, которым воспрещено было отлучаться из казармы; на продолговатой терpace перед Тюльерийским дворцом поставлены были две небольших пушки. Однако дело не шло дальше тукманок, палочных ударов, порой мальчишеств. На палатке, разбитой перед Манежем, якобинцы вывесили великолепный фригийский колпак, на него надели королевскую корону. Иногда в самый разгар перебранки и тумаков начинал идти дождь и заливал ссору.
В городе обе партии устраивали манифестации: там и сям уже появлялись зловещие фигуры – фигуры 93-года; по улицам с криками и песнями бродили враждующие отряды. В особенности бурно прошли день и вечер 24-го. У ворот Мартина собралось такое скопище якобинцев, что понадобилась кавалерия, чтобы рассеять их. На Итальянском бульваре, в так называемом “Кобленце”, элегантном и контрреволюционном кафе, где остатки прежнего общества заседали каждый вечер на шести рядах стульев, в час выхода из театров собралась толпа и затянула Пробуждение народа (Le rweil du peuple), марсельезу реакции. Тотчас же подоспела банда, иначе настроенная. Вот-вот произойдет столкновение. По улицам Фейдо, Колонн и Закона стремительно проносятся какие-то индивидуумы крича: “На помощь! против террористов!” Этого достаточно, чтобы оледенить ужасом весь квартал. Лавки запираются. “Паника растет”,– говорится в полицейских отчетах, “и многие граждане намерены переселиться в деревню.[215] Не менее других были недовольны настоящие рабочие, труженики, составлявшие массу пролетариата. Якобинцы не меньше рыцарей реакции сумели внушить отвращение к себе этому несчастному народу, требовавшему первым делом безопасности и покоя.
В конце концов совет старейший счел невозможным терпеть, чтобы какая-то секта устраивала у самых его дверей, у него под носом и против него очаг волнений. Манеж, как и все здания, причисленные к Тюльери, находился в ведении инспекторов залы – нечто вроде квесторов, депутатов, облеченных волею своих коллег широкими полномочиями по части суда и полицейского надзора. По поручению собрания, комиссия инспекторов объявила якобинцам, чтоб они искали себе другое место для разговоров. А так как внушение не подействовало, совет формальной резолюцией воспретил им доступ в Манеж. Тогда они покорились своей участи и переехали на другой берег Сены, на улицу Бак, где и продолжали свои шумные заседания в старинной якобинской церкви св. Фомы Аквинского.