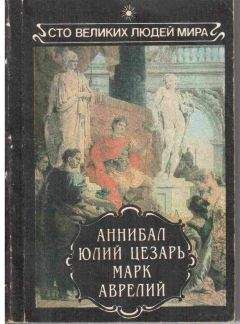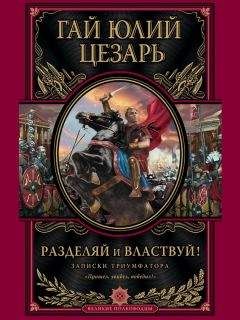VIII
В последние годы своей жизни Марк действительно дошел до того, что уже принимал воображаемое за существующее и уже не чувствовал никакой горечи от нанесенных ему обид. Но можно себе представить, какую борьбу пришлось ему выдержать с самим собой, чтобы дойти до такого состояния! Он целыми годами страдал, и эти страдания подтачивали его организм, хотя внешне Марк был благополучным человеком; правда, лицо его было бледно, но не только спокойно, а даже безмятежно-ясно. Но ни Луций Вер, ни Фаустина так не угнетали дух императора, как сын его, Коммод, бывший для него воистину адской пыткой.
По какой-то странной жестокой игре природы, у лучшего из людей должен был родиться тупоголовый атлет, способный только к телесным упражнениям, живорез, жестокое, кровожадное чудовище... По умственному своему убожеству Коммод, конечно, возненавидел всех порядочных людей, окружавших его отца, и примкнул к героям римских трущоб. Отец хорошо видел, что ничего путного не выйдет из этого молодца, но, тем не менее, сделал все, чтобы дать сыну хорошее воспитание и образование. Верный, однако, своему характеру, император относительно наследника совершил ошибку.
Для предотвращения больших бедствий, угрожавших империи от грядущего «второго Нерона», Марку не оставалось иного средства, как воспользоваться правом усыновления, т. е. устранить Коммода от императорства, назначив своим преемником более достойного. Но этого-то Марк Аврелий, и не сделал — по причинам, которых нельзя не принять во внимание при обсуждении этого обстоятельства. Дело в том, что Нерва и следовавшие за ним императоры, пользовавшиеся правом усыновления, не имели сыновей, почему им и не приходилось устранять прямых наследников. Если ранее и были случаи усыновления, когда родной сын или внук лишался прав наследия, то, как свидетельствует история, в результате ничего хорошего из этого не выходило. Марк Аврелий, по принципу, стоял за прямое наследование, устранявшее всякое соперничество, всегда сопряженное со смутой. Тотчас после рождения своих близнецов (в 161 г.), он предъявил легионам первого из них — Коммода.
Как видно, отец сначала еще надеялся, что мальчик, обнаруживши дурные наклонности, исправится, но под конец своей жизни увидел, что надежды эти не оправдались... Почти каждая страница последних тетрадок Марка свидетельствует о душевных муках его, при одной мысли о том, что вот какой будет после него «император», и предположение лишить Коммода наследия должно было часто возникать у императора — возникать, чтобы бесследно исчезнуть, так как было уже поздно, да и скандально таким образом исправлять роковую ошибку... В самом деле (мог так думать император), кроме скандала случилось бы вот что: устраненный Коммод сейчас же стал бы во главе военной партии, ненавидевшей философов, и всех, стоящих у кормила отцовского правления, и началась бы кровавая междоусобица... А если подумать, что Коммоду всего-то 18 лет, то неужели он не исправится, не сделается «человеком»! Ведь были же у него такие попытки, ведь слушался же он умных людей?.. Но чем дальше, тем больше приходилось Марку мучиться сомнениями, так как сын не становился лучше... Даже народ заметил, что будущий император ведет себя совсем уже неладно, и в толпе говорили: «Да уж полно — сын ли он императора? Нет, не его это сын! Похож он что-то на одного гладиатора... Гладиатор-то, видно, и есть настоящий отец»... Но, по разным историческим данным, все-таки подтверждается, что Коммод был родным сыном Марка Аврелия, да и лицом походил на него.
Ко всем невзгодам последних лет жизни императора присоединилось еще и одиночество, столь тягостное для человека с горячим сердцем. Друзей его детства и юности уже не было в живых, да и вообще около него не было никого, кто бы сочувствовал его настроению. Последние тетрадки Марка относятся именно к этой эпохе, то есть, когда он совершенно наедине со своим философским раздумьем всецело отдавался размышлениям о смерти. Вот что он писал тогда:
«Не проклинай смерти, но прими ее благосклонно, потому что она — одно из явлений природы. Разрушение нашего существа такой же естественный факт, как естественны молодость и старость, рост и возмужалость. Если же тебе необходимы особые доводы для большей благосклонности к смерти, то стоит только разобраться в том, с чем она тебя разлучит, рассмотреть ту моральную среду, из которой душа твоя будет изъята. Тебе не следует, однако, быть во вражде с ними (вероятно, с сыном и его приятелями), напротив: ты должен их любить, переносить с кротостью их присутствие, но и не скрывай от себя того, что люди, с которыми ты скоро расстанешься, не разделяют твоих чувствований. Единственно, что может еще вызывать привязанность к жизни — это жить среди сочувствующих нам... А теперь, при виде такого страшного раздора в твоей семье, тебе остается только воскликнуть: «О, смерть, не медли долее»! И вот, скажут: «Это был честный человек, это был мудрец»... Да, но это не помешает, однако, кое-кому втайне подумать: «Ну, наконец-то избавились мы от этого учителя!.. Теперь вздохнем свободно»...
Анализируя понятие жизни и смерти, Марк Аврелий, подобно Сакия Муни, Сократу, Франциску Ассизскому и некоторым другим мудрецам, совершенно победил смерть и мог смеяться над нею потому, что она утратила для него всякий смысл.
В 178 г., 5 августа, император покинул Рим, чтобы отправиться вместе с Коммодом на берега Дуная для окончания войны и основания пограничных провинций. Успех этого похода был блестящий, и желанная цель была уже близка, но, к несчастью, здоровье Марка сильно пошатнулось: Желудок почти отказывался служить, да и позывы на пищу были все реже. Если император заставлял себя есть что-нибудь, то только разве перед речью к солдатам. А в то время, какая-то заразительная болезнь опустошала всю Придунайскую страну, и вот, 10 марта 180 г., Марк Аврелий захворал... Радостно приветствуя приближение смерти, он отказался совсем от пищи и питья и стал держать себя, как человек, сто-•явший одной ногой в могиле... Призвав к себе сына, Марк умолял его закончить войну, а до тех пор не возвращаться в Рим, чтобы не возбудить нареканий поспешным отъездом.
На шестой день болезни император собрал вокруг себя приближенных и стал разговаривать с ними в обычном своем тоне, то есть с легкой иронией о ничтожестве всего земного и о смерти, которой не следует придавать слишком серьезного значения. При виде слез друзей, он сказал: «Зачем оплакивать меня? Замените печальные мысли другими: лучше подумайте, как сохранить армию... Ну, прощайте! Я ведь удаляюсь... всего лишь прежде вас»...