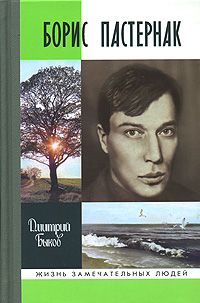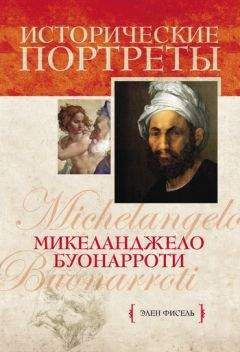Как всегда, когда Блок сам понимал, что у него получилась вещь искусственная и умозрительная, – он пытается достичь пафоса и музыкальности чисто формальными приемами: повторами («Ектеньи, ектеньи, ектеньи»), общеромантическими штампами («И другая волнует мечта»), а получается все равно сухо и слабо, и главное – каких бы задач поэт себе ни ставил, интуиция сильнее умозрения. Уголь у Блока «стонет», руда «воет» – сплошная тоска; никакого торжества сметки, самостоятельности и вообще русского капитализма не получается. Вообще всякий раз, когда русские художники брались за изображение преуспевающих помещиков, удачливых хозяев, мыслящих и просвещенных купцов, – у них выходила фальшь: что у Гоголя во второй части «Мертвых душ», что у Гончарова в «Обрыве», в сценах на лесопильне, что у Блока с Пастернаком в их поэтических мечтаниях о промышленной «Новой Америке»… (что, заметим, впоследствии у ученика Пастернака – Андрея Вознесенского, который одному такому рьяному хозяйчику, преуспевающему и деловитому мужичку вроде Прохора Медведева, прямо заявлял, помня горький опыт учителей:
Ты покуда рукопись
Для второго тома.
Если не получишься,
Я тебя сожгу).
Не зря российские купцы с надеждой спрашивали Горького после публикации «Фомы Гордеева»: «А Маякин – есть? Вы видели такого?» Маякины, может, и были, но им хорошо удавалось только то, что вело к личному процветанию; управления страной им никто не доверял, да они к тому и не стремились. И даже если бы эта мечта осуществилась – стоило русскому художнику пожить при этом самом промышленном подъеме, в «Новой Америке», как он тотчас ужасался ее жестокости и всевластию золотого тельца. Блоковская «Песня судьбы», на которую «Спящая красавица» чрезвычайно похожа стилистически, содержит изображение Новгородской промышленной ярмарки, – и вот какой монолог, куда более убедительный, чем десять «Новых Америк», произносит протагонист, мятущийся Герман:
Так вот куда нас привели века
Возвышенных, возвышенных мечтаний?
Машиной заменен пытливый дух!
Высокая мечта – цыганкой стала!
При русском капитализме Пастернак прожил двадцать семь лет – и не сказать, чтобы этот социальный строй сильно его вдохновлял. Но теперь, после краха коммунистической утопии, надежды его связаны с русским смекалистым мужичком, который Бога помнит и работать на себя умеет, и умудряется не озлобиться после того, как его трижды запороли чуть не до смерти – за чужой грех… Пастернаку до того нравится Прохор Медведев, что он сам не замечает его подозрительного сходства со Зверевой – самой отвратительной героиней пьесы (и фамилии у них получились семантически близки): «Первого моего мужа, офицера, по оговору без вины разжаловали. Он не выдержал обиды, руки на себя наложил. Застрелился он, значит, – одна я осталась беззащитная. Меня неправосудие могло злобою исполнить, против начальства восстановить. А мне и в горе благо России было дороже моей малости, превыше моих горестей да горьких моих слез. (…) Ведь у нас волей так и бредят. Актеры эти наши. А осмелюсь спросить, на что им воля? Какого рожна им еще надо? Пуще графских детей его сиятельством взысканы и заласканы. Старики их и семьи от тягчайшей барщины уволены. Граф и отпускной им не дает, их любя как отец родной, – разлетятся, мол, пропадут и сопьются. Сыграют они водевиль, он слезы льет и им руки целует. А зазнались как! Не подступись! Даром что холопского званья. А речи! А фанаберия! Да будь ты хоть сорок раз талант и гений, нет у тебя разве стыда и совести, аль ты не помнишь, кто ты есть такой, ревизская душа, худородная, забыл ты, что ли, что тебя, как вещь, купить, продать и заложить можно?» Разве не то же самое, хоть и в других выражениях, говорит Медведев мечтающему о свободе Саше Ветхопещерникову?
Конечно, трудолюбивый Прохор, разбогатевший трактирщик, выдуман от начала до конца. Пастернак и сам отлично сознает, что главная беда России – в отсутствии у народа исторической воли. «Страна у нас казенная», – говорит Ветхопещерников. Бумага в ней решает все. «Россией управляют не цари, а псари, полицейские урядники, дослужившиеся до исправников унтера, чиновники четырнадцатого класса». С этими обличениями Пастернак, надо полагать, совершенно согласен – хотя методы, предлагаемые Ветхопещерниковым, представляются ему ложными. Эпизодический персонаж, крепостной Ксенофонта Норовцева по имени Евсей, высказывается исчерпывающе: «Чтобы человека от барина на все четыре стороны уйтить отпустили, так это, конечно, одни кофейные грезы дворянские для провождения времени, одни чайные господские беседы. Не будет того, чтобы барин своей охотой людям волю дал». Фурьерист Ксенофонт в ответ на таковое недоверие собирается отхлестать своего крепостного по щекам, но чудом сдерживается, театрально вскрикивая: «В каких скотов превращает нас самих это проклятое рабовладение!» Проповедь свободы, сопровождаемая пощечинами, – это точно и гротескно, и вполне выражает отношение Пастернака к русскому дворянскому либерализму. Тут он тоже оказался пророчески прав – проповедовать свободу пощечинами либералы не перестали и сто лет спустя.
Вообще говоря, идея свободы в «Слепой красавице» как раз компрометируется, вполне в духе искренней статьи «Новое совершеннолетие». Проповедники свободы – либо краснобаи вроде Ксенофонта, либо разрушители вроде Ветхопещерникова, а надо не свободу устанавливать, но создавать условия для плодотворного труда. Все только и ждут, как бы потрудиться. Вторым носителем этой идеи (первый – Прохор Медведев – олицетворяет собою труд физический, промышленный, купеческий) выступает как раз главный персонаж – Дмитрий Агафонов, или Митяй-удача. Назван он, как все герои Пастернака, в высшей степени символично: Дмитрий (сначала был Петр) – значит плодородный; фамилия – Агафонов – указывает на греческого трагика, актера и поэта, жившего в V веке до нашей эры и упоминаемого в «Диалогах» Платона. От его сочинений уцелело несколько фраз, и одна из них – «Невероятное весьма вероятно». Он был предвестником стоицизма и учителем Еврипида.
Агафонов выражается совершенно по-пастернаковски: «Я не скрываю от тебя, я не твой соумышленник. (Это он Ветхопещерникову, как легко догадаться. – Д. Б.) Свободолюбие мое совсем другого рода. Я не люблю законодателей, ни нынешних, ни тех, которых вы готовите, если по всеобщему и вашему собственному несчастью вы когда-нибудь к чему-нибудь придете. Я люблю родящую землю, плодовые деревья, колосящиеся хлеба. Я люблю тружеников, возделывающих поля, ухаживающих за садами. Я люблю людей, кропотливо, до последних мелочей приводящих свои мечты в исполнение своими руками, и не понимаю и презираю глубокоумцев, занятых в общих чертах выработкой расплывчатых и, ближе, неопределимых идеалов. Я люблю крестьян, ремесленников и кровно, жадно, до смерти люблю художников, а ты и твои подпольщики, даже когда вы мучениками всходите на эшафот… Э, да что там говорить».