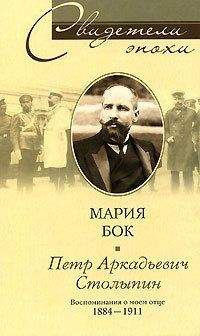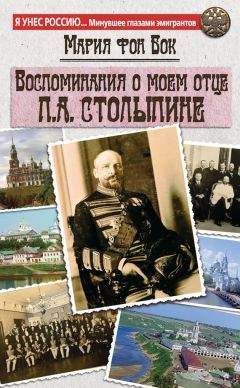Когда я за завтраком рассказала папа о пережитом мною волнении, он очень смеялся и, казалось, был доволен тем, что его охрана работает так добросовестно.
Сам Петербург меня с первого дня очень разочаровал: мрачным, ненарядным, недостаточно «европейским» показался он мне после Берлина и Вены, а вместе с тем не было в нем и восточного великолепия Москвы.
Лишь позднее оценила я красоту нашей столицы: «Невы державное теченье», сказочно легкие очертания Петропавловской крепости в морозном тумане вечерних петербургских сумерек.
Но мы летом редко и бывали в городе, лишь изредка ездили мы туда с мама за покупками или в Думу, когда должен был говорить папа. Как ни далек от деревни был наш Аптекарский остров, но все-таки всегда приятно было вернуться на набережную Невки, обсаженную деревьями, где находилась наша дача: как-никак там была зелень и хоть «дачная», но все-таки природа. К тому же не всегда и бывали приятны эти поездки. Помню я, как раз, когда мы проезжали в коляске с мама по одной из улиц Островов, по дороге в город, до нас отчетливо долетели слова каких-то стоявших там парней, злобно нас оглядывающих: «Хороша колясочка, нам она скоро на баррикады очень даже хорошо пригодится». Сказано это было вызывающе громко.
Первое посещение Государственной думы произвело на меня неизгладимое впечатление. Столько мне рассказывал про наш «парламент» мой учитель истории в Саратове, восторженно описывая это собрание мудрых, проникнутых самыми высокими идеалами людей, горящих желанием самоотверженно работать на благо родины. И когда я в газетах читала отчеты заседаний Государственной думы, мне слышались спокойные, умные речи, рисовались вдумчивые лица, серьезные, взвешивающие каждое слово люди, знающие, что их речам суждено разнестись потом по всей России. И седовласый председатель Думы Муромцев представлялся мне каким-то полубогом, отрешившимся от всего мирского.
Каковы же были мои удивление и ужас, когда я увидала, до чего мало общего между нашей Государственной думой и Афинским ареопагом, как я себе его представляла.
А как забилось сердце, когда я в первый раз увидала моего отца, всходящего на трибуну! Ясно раздались в огромной зале его слова, каждое из которых отчетливо доходило до меня. Да, папа отвечал моему представлению – он был поразительно серьезен и спокоен. Лицо его почти можно было назвать вдохновенным, и каждое слово его было полно глубоким убеждением в правоту того, что он говорит. Свободно, убедительно и ясно лилась его речь.
За короткое время своего существования 1-я Государственная дума закидывала правительство запросами, вперемежку с которыми занималась разработкой самых крайних предложений. Обсуждались все те же вопросы об общей амнистии, об отнятии земли у помещиков, об отмене смертной казни…
Недолго дали говорить моему отцу спокойно: только в самом начале его речи все было тихо, но вот понемногу на левых скамьях начинается движение и волнение, депутаты переглядываются, перешептываются. Потом говорят громче, лица краснеют, раздаются возгласы, прерывающие речь. Возгласы становятся все громче, то и дело раздается «в отставку», все настойчивее звонит колокольчик председателя. Скоро возгласы превращаются в сплошной рев. Папа все стоит на трибуне и лишь изредка долетает до слуха, между криками, какое-нибудь слово из его речи. Депутаты на левых скамьях встали, кричат что-то с искаженными, злобными лицами, свистят, стучат ногами и крышками пюпитров… Невозмутимо смотрит папа на это бушующее море голов под собой, слушает несвязные, дикие крики, на каждом слове прерывающие его, и так же спокойно спускается с трибуны и возвращается на свое место.
Совершенно ошеломленная, не веря глазам и ушам, я встала и глядела вниз в залу. Не менее меня была взволнована и вся остальная публика, и, как в чаду, покинули мы Таврический дворец.
Весь конец июня и начало июля прошли очень тревожно. Единственное время, когда я могла задавать папа вопросы, был вечерний чай, который мой отец приходил пить в гостиную и на котором, кроме мама и меня, почти никогда никто не присутствовал.
Помню, как папа говорил, что не только а Государственной думе, но и в кабинете министров полного согласия нет, что и является главным тормозом для принятия более решительных мер. Председатель Совета министров признавал лишь одни самодержавные решения государя, и это делало заседания кабинета министров пассивными. Между тем папа говорил, что сила правительства проявится лишь в том случае, если оно будет выносить свои решения «объединенным» министерством и этим облегчит непосильную работу государю.
Руководящую роль в Государственной думе играли кадеты,[22] принявшие с первых же заседаний непримиримую позицию по отношению к правительству, и для моего отца уже с конца мая стала совершенно ясной невозможность совместной работы правительства и Думы.
Все это создавало атмосферу, очень затрудняющую работу моего отца, и я видела, насколько все утомленнее становится его лицо и как он должен брать себя в руки, чтобы в короткие минуты, которые он проводил с нами, казаться веселым и входить в наши интересы. Я, конечно, понимала все это, а младшие сестры, как раньше, подбегали к нему, только он выходил к завтраку или к обеду, с рассказами о всяких своих детских горестях и радостях. Папа их слушал, ласкал, но часто имел при этом рассеянный, отсутствующий вид и вполне отдыхал лишь тогда, когда брал на колени своего трехлетнего сына.
В окна мы видели то и дело подъезжающих к даче разных государственных деятелей. Папа тоже часто ездил и к другим министрам, и к государю. И очень поздно по ночам затягивались его занятия и частые заседания.
Этому последнему никак не могла надивиться двоюродная сестра моего отца, графиня Орлова-Давыдова, дочь бывшего нашего посла в Лондоне. Она все говорила:
– Как можно работать без отдыха? В Англии все государственные деятели вечер, после обеда, посвящают исключительно семье и удовольствиям!
К этому же времени относятся переговоры моего отца с лидерами господствовавшей в 1-й Государственной думе партии кадетов. Я помню, как он надеялся сговориться с ними для составления коалиционного кабинета. Но он встретил лишь упорное непонимание и нежелание уступить хоть в чем-нибудь, почему и принужден был отказаться от этой мысли.
Я не понимала тогда, почему все эти переговоры ведет папа, а не Горемыкин.[23] Но очень скоро это выяснилось.
9 июля, когда папа со своим дежурным чиновником особых поручений вошел к завтраку, последний сказал одной из моих маленьких сестер: