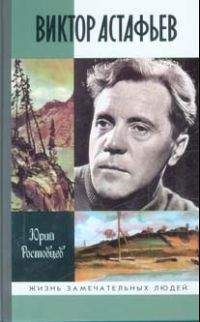Виктор, когда помылся, то на полог полез, чтобы попариться.
Мария собралась уж выходить в предбанник, одеваться, когда он опять рявкнул:
— А кто на каменку сдавать будет? Папашу звать?!
«И тут я поняла, — не без иронии замечает Мария, — человек мыться намеревается основательно, чтоб все, как у людей. Осталась с ним, чтобы не получилось, что мы торопились, не хотели вместе побыть».
После бани их ждало все семейство за самоваром.
Так Виктор Петрович был принят в семью Корякиных.
Уже на другой день пришлось Виктору идти со своей новой родней на реку, вмерзшие в воду плоты вытаскивать. Обычно делали это почти всегда еще до заберег, до шуги. Но в этот раз не получилось — помощников-то не было.
Работы хватило на целый день. А к вечеру, когда все подустали, случилось происшествие. Виктор и брат Марии, Азарий, ворочали бревно и не в раз его сбросили. Азарий поспешил, и вершина бревна, спружинив, разбила нос Виктору.
Азарий клял себя за оплошность и матерился, прикладывал к носу Виктора снег, отбрасывая пропитанные кровью комки, лепил новые… Как часто бывает, беда сблизила их, они быстро сроднились и сдружились.
Безденежье не особо удручало — к нему привыкли.
«Надев военную шапку жены и свою форсистую шинель, под нее папашину душегрейку, я снес на базар запасную пару белья и, потолкавшись среди военного в основном люда, роящегося на холодном пустыре, обнесенном черным от копоти, шатнувшимся в лог, местами уже и упавшим забором, посреди которого стояли два дощатых торговых „павильона“, по которым гулял ветер, потому как тес с них был сорван, столбы щетинились ржавыми гвоздями и под крышами „павильонов“ угрюмо и пустынно гудело, я реализовал свой товар. На вырученные за белье деньги тут же, на базаре, в дощатой будке сфотографировался на паспорт, купил полбулки серого смятого хлеба и стриганул домой, радуясь тому, что жене выдали шапку, что головы у нас одного размера, вот только характеры разные. Совсем разные. Разительно разные. Но Бог свел, соединил нас, и родители ее доказали всей своей жизнью, что женитьба есть, а разженитьбы нет.
Через три дня я получил фотокарточки и отправился в райвоенкомат — сдавать военные и получать гражданские документы и обретать уже полностью гражданскую свободу».
Оказалось это делом не простым. Таких, как Астафьев, в городе было пруд пруди.
Помню, мы с Виктором Петровичем как-то подробно говорили о ситуации, которая сложилась в 1945 году после победы.
— Выходит вас, фронтовиков, встретили не с распростертыми объятиями? — поинтересовался я.
— Какие объятия, все кругом фронтовики. Да и те, кто дома оставался, — сплошь покалеченные. Вот нас с фронта еще двое заявилось. Обустраиваться надо, а как? Говорю же тебе, что даже на учет, помню, вставал как-то затяжно, тягостно.
Из армии сначала отпускали старший возраст, после пятидесяти, и женщин. Потом — во вторую очередь — тех, кто имел по три ранения. Вот это — меня коснулось.
Приехали мы в Чусовой в шинелишках, я — в пилотке, только у Марьи шапка была. А это же ноябрь, мороз под 30 градусов. Не забалуешь. Я при демобилизации получил 180 рублей денег и пару белья. Примерно такие же богатства везла моя жена. Между тем булка хлеба стоила 400 рублей. Тут можно пропасть без человеческого участия. И потому скажу, что в самой организации жизни, пожалуй, тогда больше было человеческого.
Нас в военкомат одномоментно съехалось несколько тысяч. В военкомате — две девчонки, с утра до ночи с солдатиками возятся, выправляют документы. Чтобы паспорт выдать фронтовику, надо кучу бумаг исписать, где-то заверить и прочее. Так просто у нас гражданином не стать. Сколько времени отнимали проверки! У порога военкомата ошивались с утра до вечера. По очереди забегали внутрь, чтобы согреться.
Помню, вышел к нам подполковник Ашуатов, тоже после фронта, только-только назначенный военкомом, и говорит: «Да-а! Так вы у меня пропадете — без документов и довольствия. Надо вам искать применение. Пойдете на снегоборьбу? Там, пожалуй, договорюсь».
Станция Чусовая — серьезная, узловая. Объем движения огромный. Кому из нас больше заняться было нечем, пошли снег грести. Сразу дали карточки. Раз в неделю — деньжонки подкидывали, около ста рублей. Так началась моя сознательная трудовая жизнь. На станции перезнакомились, могли держаться в новой для нас обстановке вместе, сообща.
Что еще важно: все-таки мы мало чем от того подполковника отличались. Я и теперь благодарен ему: ведь нашел Ашуатов, куда нас приткнуть. Выйдет ли сегодняшний полковник к таким же замерзающим у его порога ребятам? Не знаю, не уверен. Скорее всего, пройдет, сунув нос в воротник, мимо и рванет с молодой шмарой на дачку. Пропади вы пропадом, солдатики.
Подошла третья очередь демобилизации, четвертая, а мы все на снегоборьбе. Впрочем, там я и нашел себе постоянное место. Так что начинали после войны мы без жилья, без профессии…
— Но у вас же было ФЗО за плечами, вы работали до войны составителем поездов?..
— После полученных увечий я не соответствовал условиям своей специальности, не взяли. Да и сам не смог бы, физически…
Возвращаясь к разговору о Чусовом, скажу, что городишко в основе своей был сплоченный. Народ кучей жил, взаимовыручкой. Это реально помогало выкарабкаться из нищеты, вселяло какую-то надежду. Хотя, казалось бы, на войне мы все ожесточились, ведь находились в нечеловеческих условиях. Не дай бог вам подобное пережить. И никому…
«Кто-то где-то там наверху, в небесах, — пишет Астафьев в повести „Веселый солдат“, — услышал слова подполковника Ашуатова, наши ли солдатские молитвы до Бога дошли — на Чусовской железнодорожный узел обрушились гибельные метели со снегом. Все мы, военкоматовские сидельцы, были мобилизованы на снегоборьбу. На станции нам ежедневно выдавали талоны на хлеб, еще по десятке денег и тут же, в ларьке, их отоваривали. Однажды даже выдали по куску мыла и по нескольку метров синенькой дешевенькой материи, из которой жена моя тут же сшила себе первую гражданскую обновку — коротенький халатик, кокетливо отделав его по бортам бордовой тряпицей…»
Во время этой работы на станции, прознав, что Астафьев по первой профессии — железнодорожник, правила и образ станционной жизни знает, ему предложили быть дежурным по вокзалу. Впрочем, продержался он на этой должности недолго — очень оказалась работа суетная и бестолковая.
А в доме Корякиных — еще события. Как-то сквозь сон услышал Виктор крики, плач, ругань. Жены рядом не было, и он догадался, что кто-то еще приехал, скорее всего Калерия, которая была старше двумя годами Марии. Самая красивая и строптивая…