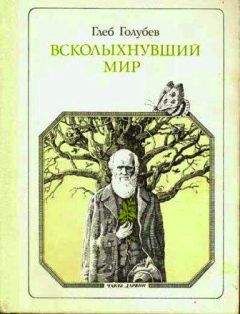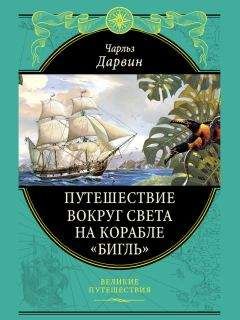У Дарвина сложились удивительно дружеские отношения с детьми. Они обожали и боготворили отца - ив то же время смотрели на него как на старшего товарища во всех своих затеях.
«Не думаю, чтобы он за всю свою жизнь сказал кому-либо из своих детей хотя бы одно сердитое слово, но я уверен, что никому из нас не пришло бы в голову не повиноваться ему», - вспоминал Френсис Дарвин.
«Другой характерной чертой его обращения с детьми было уважение к их свободе и к их личности, - дополняет брата сестра Генриетта. - Помню, какое наслаждение доставляло мне это чувство свободы еще в те времена, когда я была маленькой девочкой... Отец всегда давал нам понять, что мы являемся людьми, мнения и мысли которых ценны для него...»
Дарвин искренно и прямо отвечал на все вопросы детей. «Помню, что я в своей невинности, будучи маленьким мальчиком, спросил его, бывал ли он когда-нибудь выпивши, на что он серьезно отвечал, что, к стыду своему, он однажды выпил лишнее в Кембридже. Этот разговор произвел на меня такое впечатление, что я помню до сих пор, на каком месте он происходил,..» (Френсис Дарвин).
Отец всегда находил время узнать, как у них идет учеба, почитать им новый роман Вальтера Скотта, объяснить, как устроена паровая машина, или просто пошутить, повозиться с ними. («Когда вы были совсем маленькими, мне доставляло наслаждение играть с вами, и я с тоской думаю, что эти. дни никогда уже не вернутся...»)
Сколько теплоты и нежности в его письмах детям! Они раскрывают перед нами его характер с какой-то новой стороны. Даже трудно поверить, что их писал вот этот величавый, почтенный старец с окладистой бородой.
«Какой умопомрачительный, головокружительный, жуткий и ужасный, а также изнурительный бег с препятствиями ты одолел. Удивительно, что ты пришел пятым», - подбадривает он Уилли. А в другом письме, советуя ему, как лучше подготовиться к чтению молитв, Дарвин делится опытом: «В бытность мою секретарем Геологич. общества, мне на заседаниях приходилось читать членам общества вслух разные бумаги; правда, я всегда их внимательно прочитывал заранее, но все равно на первых порах до того волновался, что, кроме своей бумажки, почему-то вообще ничего вокруг не видел, и было такое чувство, что тела у тебя больше нет, а осталась одна голова».
Другому сыну, торжественно величая его «милым стариной Гульельмом», Дарвин рассказывает о встречах со своими друзьями-голубятниками в трактирах: «Мистер Брент оказался очень забавным человечком; ...после обеда подает мне глиняную трубку и говорит: «Вот вам трубка», - как будто само собой разумеется, что мне положено курить... В субботу привезу с собой еще больше голубей, ибо это благородная и царственная страсть, и никакие мошки и бабочки с ними в сравнение не идут, и не спорь, пожалуйста!»
Дети растут. Меняются советы, которые дает им отец. Но все так же его письма проникнуты нежностью и заботой: «Добр ты бываешь почти всегда, тебе не хватает лишь того, что достается гораздо легче, - внешней видимости. Верь мне, существует один-единственный способ усвоить хорошие манеры: стараться делать приятное окружающим - твоим товарищам - студентам, слугам - словом, каждому. Пожалуйста, родной мой мальчик, вспоминай про это иногда, ведь ума и наблюдательности тебе не занимать».
Надо ли удивляться, какой любовью и уважением отвечали ему дети. «Как часто, - вспоминал Френсис, - когда отец стоял за спинкой моего стула, мне, уже взрослому, хотелось, чтобы он погладил меня по голове, как бывало в детстве...»
(Опасения Дарвина о своих детях, не дававшие ему спать по ночам, к счастью, не оправдались. Все шесть его сыновей и четыре дочери (кроме умершей в детстве Энн) благополучно выросли. Некоторые из них приобрели большую известность своей научной и общественной деятельностью: Френсис стал ботаником-физиологом, издателем писем отца; Горас - инженером; Джордж-Говард - знаменитым астрономом.)
Пожалуй, он стал работать еще медленнее, еще тщательней. («Сначала я делаю самый грубый набросок в две или три страницы, затем более пространный в несколько страниц, в котором несколько слов или даже одно слово даны вместо целого рассуждения или ряда фактов. Каяс-дый из этих заголовков вновь расширяется и до неузнаваемости преобразуется, прежде чем я начинаю писать in extenso[7]».)
И все же через каждые два-три года выходили новые томики в одинаковых зеленых обложках. Все биологи их ожидали с нетерпением. Они как бы развивали и дополняли отдельные положения «Происхождения видов»: «О движении и повадках лазящих растений», «Изменения животных и растений под влиянием одомашнивания». («Это огромная книга, и стоила она мне четырех лет и двух месяцев напряженного труда»[8].)
Впрочем, и теперь находились люди, считавшие Дарвина лентяем... Правду говорят, будто нет пророка в своем отечестве. Друзья, смеясь, пересказывали, как упрекал своего хозяина старый даунский садовник:
- Хороший старый господин, только вот что жаль: не может найти себе путного занятия. Посудите сами: по нескольку минут стоит, уставившись на какой-нибудь цветок. Ну, стал бы это делать человек, у которого есть какое-нибудь серьезное дело?
Работы и хлопот у Дарвина не убывало. Но главной проблемой, которой он теперь посвящал больше всего времени, стало происхождение человека. Он уже собрал множество любопытнейших фактов и в письмах друзьям делился своими размышлениями: «Наш предок был животным, которое дышало в воде, имело плавательный пузырь, большой хвостовой плавник, несовершенный череп и, несомненно, было двуполым! Вот забавная генеалогия для человечества». («Ну, не нахал ли я!»)
Он хочет проследить происхождение человека куда дальше пресловутой обезьяны, ставшей для противников дарвинизма воистину жупелом, притчей во языцех. Между тем в те времена наука располагала лишь косвенными доказательствами общности происхождения человека и обезьян. Об этом свидетельствовало их анатомическое сходство. Других же доказательств тогда было еще маловато. Только в 1848 году при раскопках на Гибралтарской скале нашли странный древний череп с низким и покатым лбом и массивным валиком над глубокими глазными впадинами - обезьяны или человека? В 1856 году во Франции выкопают челюсть древней обезьяны с коренными зубами, весьма похожими на человеческие. Позднее эту человекообразную обезьяну назовут дриопитеком. В том же 1856 году череп, похожий на гибралтарский, но уже со скелетом, найдут в Германии, в долине Неандерталь, - и уже станет ясно, что это человек.
Вот и все, так сказать, прямые доказательства, какими располагала тогда наука. Негусто. Да и вокруг этих находок шли горячие споры. Одни предлагали уже ввести термин «неандертальский человек». А знаменитый патологоанатом Вирхов, осмотрев тот же скелет с черепом, пришел к выводу, будто они принадлежат нашему современнику - только попорчены следами рахита и старческой деформации...