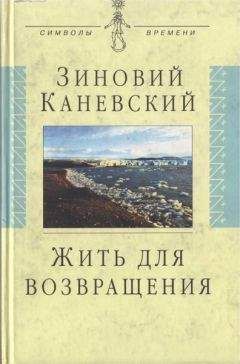Нас, человек тридцать, направлявшихся на разные полярные зимовки, разместили в трюме-твиндеке с двухъярусными нарами. Пятеро суток пересекали мы Баренцево море, спокойное и до поры безледное. Народ чуть ли не круглосуточно — благо, стоял полярный день — торчал на верхней палубе, любуясь океаном, тюленями на отдельных льдинах, прожорливыми чайками, летевшими за пароходом и хватавшими на лету все, что выбрасывалось с камбуза за борт. Я фотографировал, точил лясы с коллегами и старался приободрить Наташу, казавшуюся мне грустной, даже подавленной.
Внезапно начали рождаться стихи, я тотчас предавал их семейной огласке, и моя жена, дай ей бог здоровья, принимала их более чем одобрительно (и это Наташа, две недели назад переписывавшая в тетрадь цветаевскую «Поэму конца»!).
Раздвигая воды моря Баренца,
Днем и ночью движется «Седов».
За кормою след широкий тянется —
Кто сказал, что в море нет следов?
Я сочинял строфу за строфой, бесстыдно рифмовал «моряков» и «облаков», «моржи» и «скажи», а сказать я просил свою жену, нравится ли ей стоять на борту арктического корабля рядом с любимым (а как же иначе!) человеком, приближаясь к финишу свадебного путешествия-мореплавания. Пять солнечных дней и таких же ослепительных, с незаходящим полярным светилом ночей Новая Земля скрывалась за густой стеной прибрежного тумана, а потом внезапно открылась, засияла своими заснеженными, заледеневшими горами. Мы с Наташей обнялись и застыли у правого борта.
На Всесоюзном радио вызрел заговор против меня. Сперва передали «Лунную сонату» паршивца Страхова, а сегодня, словно издеваясь надо мной, «Степь да степь кругом»! Я тотчас вспомнил паренька с геофака Гришу, рассказавшего мне однажды, как мучила его эта прекрасная русская песня-романс:
— Отец был агрономом и замерз прямо в поле. Мы с сестренкой были совсем маленькими, и мама никогда не передавала нам никаких подробностей трагедии. Но с тех самых пор я не в силах слышать песню о замерзшем в степи человеке…
А мне откуда их взять, эти силы? Погиб, замерзнув заживо, ямщик из песни, по жизни — агроном, либо, допустим, сотрудник полярной экспедиции, какая разница! Последнее случилось не в центрально-черноземной зоне, а в ледяном море, при моем непосредственном участии. Когда зазвучали слова: «а жене скажи слово прощальное», я не выдержал, чуть ли не зубами выдернул шнур из розетки. Никто, слава богу, этого не видел, Наташе, понятно, я о том не рассказал, но слушать радио перестал, на долгие десятилетия сохранив к нему неприязнь.
Две сестрички, Тоня и Аллочка, разыграли для меня спектакль. Остановили у раскрытой двери каталку, накрытую простыней, и заверещали:
— Ну дед, ну, миленький, вставай давай, ножками-ножками двигай — думаешь, легко тебя в покойницкую катить? Не придуривайся, дедок, некогда нам с тобой возиться, нас тут молоденький ждет!
Вот какое веселье можно сотворить, если есть желание, даже из темы смерти. Хохочем же мы над таким, например, анекдотом. Больной с каталки обращается к медсестре:
— Сестричка, а может, все-таки попробовать в реанимацию? — и слышит в ответ:
— Хватит капризничать, доктор велел в морг — значит в морг!
Наверное, подобные байки — истинное спасение для обладающих чувством юмора тяжелобольных людей. Так или иначе, шуточки сестер меня не коробили, тем более, что за ними следовали столь необходимые мне слова:
— Ты, дед, бери пример с нашего Зиновия. Молодой, не тебе чета, и ведет себя замечательно!
Да уж… Доигрался до того, что Павел Иосифович прикрикнул на меня, сказал, чтобы я перестал настырничать, изводить «уникальную», как он выразился, жену. Велел ждать. Сколько? А сколько будет нужно! И, сжалившись надо мною, добавил:
— Теперь уже недолго. Демаркационная линия почти обозначилась. Надеюсь, что еще в этом месяце мы освободим вас от всех излишеств.
Я принял твердое решение не реагировать на эти страшные слова, затихнуть и впредь не подавать голоса.
Вторая декада апреля была на исходе.
Глава пятая
ДАЛЬНЯЯ ЗИМОВКА
Исполинской, почти тысячекилометровой дугой взметнулась с юга на север Новая Земля, два крупных острова Северный и Южный, с проливом Маточкин Шар посредине и еще великим множеством островов и островков. Слева, с запада, Баренцево море, справа — Карское. Новоземельский архипелаг очень точно назвали «Гибралтаром Арктики», как бы сторожащим выход из сравнительно теплого, омываемого одной из ветвей Гольфстрима Баренцева моря, в холодное Карское, заслужившее наименование «ледяного погреба» из-за постоянных льдов, редко покидающих его даже летом.
С древнейших времен Новую Землю посещали архангельские поморы. Они ставили на ее берегах избы, зимовали там, охотились на морского зверя, белого медведя, северного оленя, ловили песца, собирали яйца на крупнейших в мире птичьих базарах. В самом конце XVI века на северной оконечности архипелага, на мысе Желания, побывала голландская экспедиция под начальством Виллема Баренца, нашедшего вскоре упокоение в море, которое три столетия спустя назвали в его честь (до того Баренцево море именовали и Студеным, и Русским, и Московским, и Мурманским).
Немного ниже мыса Желания в северо-западный берег Новой Земли вдается просторный разлапистый залив. К самому морю спускаются с горных хребтов величественные голубые ледники, они заполняют долины между горами, обламываются в океан айсбергами. В 70-х годах XIX века проплывал в тех водах на парусном судне норвежский зверобой Мак. Его внимание привлекли источенные временем, поваленные ветрами православные кресты, там и сям разбросанные по берегам. Это были могилы русских поморов, нашедших здесь смерть от лишений и болезней, от холода и медвежьих когтей. В память о них норвежцы назвали красивый залив Русской Гаванью, и полярная станция, выросшая на берегу залива в 1932 году, получила то же самое наименование.
Ранним утром 30 июня 1955 года «Седов» буднично и деловито вошел в гавань на 76-й параллели. Сбавив ход и ориентируясь по береговым створным знакам, судно осторожно, чтобы не напороться на мель, приблизилось к узкому перешейку между двумя бухточками, каждая из которых имела свое название, и капитан скомандовал «стоп машина». Заскрежетала якорная цепь, пароход, вздрогнув, застыл в нескольких десятках метров от берега. Мы, говоря классическим языком, прибыли к месту своего назначения.
Началась разгрузка, заработали судовые лебедки, забегали по палубе и по берегу рабочие бригады, засуетились люди в трюмах. Пошла перевалка грузов в шлюпки, кунгасы, плашкоуты и другие плавсредства — иного произношения этого уродливого словечка я, признаться, не слышал ни в Арктике, ни на Большой земле. Доставленное на берег имущество тотчас отволакивали подальше от кромки моря, за черту прибоя, чтобы его не смыло волнами или начавшимся приливом. Тяжело давался уголь, его засыпали на верхней палубе в прочные двухслойные бумажные мешки, килограммов по пятьдесят-семьдесят, отвозили на берег, и тут мы подставляли спины и оттаскивали мешки в угольный склад, заполняя его «под завязку». Соответственно, росла груда товаров в продуктовом и вещевом складах.