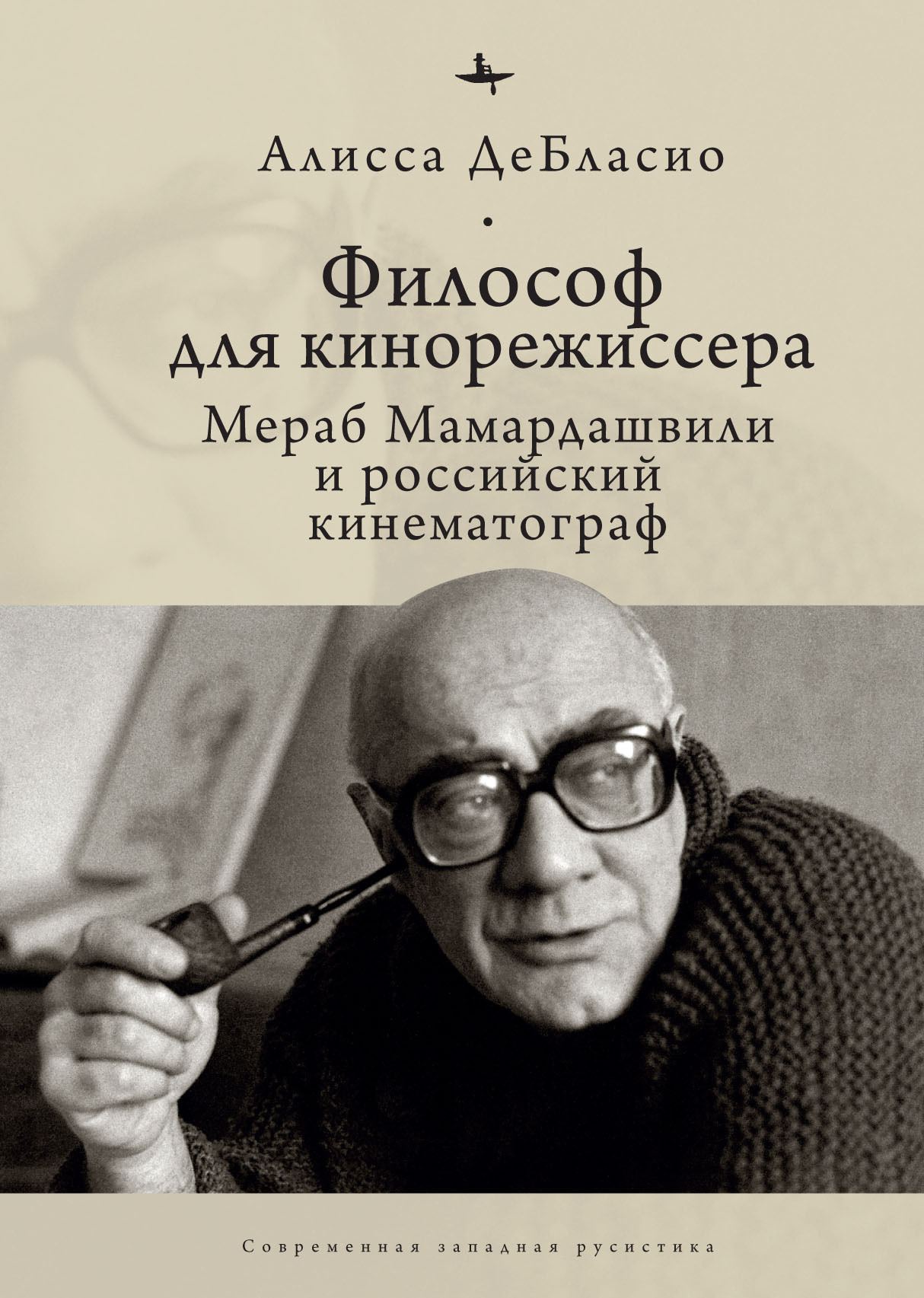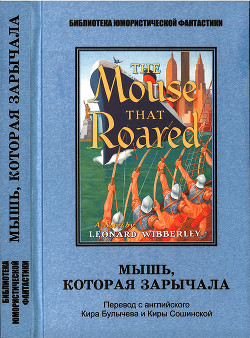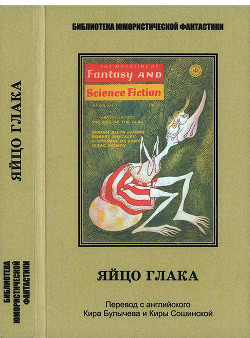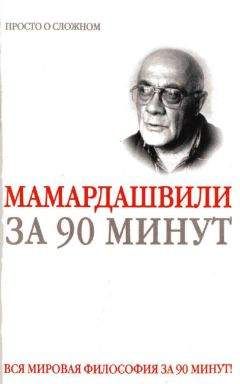даже самой мысли.
В понимании Мамардашвили человеческий опыт расколот между двумя мирами. Есть описуемая сторона, мир, который мы знаем из повседневного опыта и который описываем на повседневном языке. Но есть и «другая сторона», которую он называл также «неописуемой» и «третьей» стороной и которая представляет темную и неизвестную сторону знакомого нам мира: «вырожденный, или регрессивный» зеркальный образ первого, в котором отрицаются истины и ожидания описуемого и в котором язык «мертв» [Мамардашвили 2013:12-13]. Здесь Мамардашвили применяет эпистемологическую, или контрфактическую, линзу: это не значит, что он предполагает существование некоего иного мира, в котором все перевернуто; скорее, эта «другая сторона» относится не только к советской реальности, но и, пожалуй, к сфере логической возможности в едином, максимально инклюзивном человеческом опыте. Иными словами, неописуемый мир – это логический перевертыш первого мира, концептуальное пространство возможностей, в котором Мамардашвили играет с тем, как все может обернуться, исключительно в пределах философского ландшафта человеческого сознательного опыта, как мы его понимаем. Если человеческая жизнь имеет возможности для движения вперед, мышления и рефлексии, она также обладает возможностью погрузиться во тьму и варварство, в отсутствие мысли и мыслей о мысли.
«Другая сторона» наиболее остро представлена в прозе Кафки. Мамардашвили назвал ее «третьим “К”»: первое «К» у него обозначает Картезию (Декарта), второе – Канта, а третье – Кафку. В литературной фигуре Кафки он увидел олицетворение болезней современной эпохи: изолированного существования, оторванного от общества и представлений об общем благе, и того регрессивного состояния, которое он называл «больным сознанием» и считал преобладающим, в частности, в советском менталитете [Мамардашвили 1992: 163-165].
Литературная функция абсурда в творчестве Кафки, по мнению Мамардашвили, «это комедия невозможности трагедии, гримаса какого-то потустороннего “высокого страдания”. Невозможно принимать всерьез ситуацию, когда человек ищет истину так, как ищут уборную, и наоборот, ищет на деле всего-навсего уборную, а ему кажется, что это истина или даже справедливость…» [Мамардашвили 2013:16]. Мамардашвили также использовал образ «третьего “К”» для описания непостижимого, забытого и невосполнимого смысла в речевых актах. Когда мы терпим неудачу как субъекты или мир подводит нас, мы впадаем в «третье “К”», или в состояние абсурда. Примечательно, что именно литература наиболее удачно изображает то пространство отрицания, которое Мамардашвили определил в «Беседах о мышлении» как «то, чего не может быть, то есть нечто, чего не может быть по нашим представлениям об этом» [Мамардашвили 2018: 405].
Разъясняя философскую проблему абсурда, Мамардашвили использовал образ «зомби». Метафора, весьма уместная для этого мира несовместимости, поскольку зомби одновременно означает и человеческую жизнь, и ее отсутствие: «“зомби”-ситуации вполне человекоподобные, но в действительности для человека потусторонние, лишь имитирующие то, что на деле мертво» [Мамардашвили 2013: 17]. «Зомби» удачно представляет этот логический другой мир, потому что он похож на человека, но не является человеком; мы можем рассматривать понятие зомби в концептуальной категории человеческой жизни и в то же время понимать ее как «вырожденный, или регрессивный» вариант повседневного, описуемого мира [Там же: 17]. Поразительно, что Мамардашвили начал пользоваться метафорой зомби более чем за десять лет до того, как образ зомби стал одним из ключевых в современной аналитической философии сознания, в частности в работах Д. Чалмерса, Д. Деннета и других [69].
Самым великим непознаваемым для Мамардашвили оставалось сознание как таковое. Сознание необходимо для любого здравого определения человеческой жизни, оно сопровождает все наши мысли и представления, но может быть описано только через метафоры и парадоксы либо через поэзию и умолчание. В этом, согласно Мамардашвили, состоит парадокс трансцендентального. Именно понятие «другой стороны» позволяло Мамардашвили совмещать позиции Декарта и Канта. Трансцендентальное, не следует забывать, всегда приводит к парадоксу – к этому непреодолимому разрыву между внутренним состоянием души (мыслью и желанием) и внешним состоянием телесного материала, превращающему человеческую жизнь в философскую загадку, которая снова и снова отсылает нас в область парадокса.
Кратко излагая учение Канта о трансцендентальном, Мамардашвили упоминает «мир, взятый в отношении к первым источникам знания об этом мире, или мир, сродненный и допускающий внутри себя источники знания о нем самом» [Мамардашвили 2002: 133, 145]. Однако если Кант в «Критике чистого разума» утверждал, что существуют определенные априорные категории, универсальные и необходимые для понимания человеческого опыта, то для Мамардашвили проблема трансцендентального подчеркивала в первую очередь парадокс человеческого опыта. Иными словами, трансцендентальное ведет не к эпистемологической уверенности в природе человеческого опыта, а к непреодолимой, непознаваемой картезианской пропасти между душой и телом и, следовательно, между сознанием и миром [Там же: 133]. Здесь стоит вспомнить памятное определение Мамардашвили человеческой жизни как квинтэссенции этой трансцендентальной тайны: «Ходячий пример вещи в себе – это человек» [Мотрошилова 2007: 98]. Нельзя не отметить, что в интерпретации Мамардашвили кантовской трансцендентальности, так же как и декартова cogito, отсутствует важная составляющая: абсолют, на котором держится система, или Бог [70].
Каковы были взгляды Мамардашвили на соотношение веры и абсурда? Мамардашвили был советским философом, и ему бы не позволили открыто обсуждать возможность существования трансцендентных истин, даже если бы он этого хотел. Тем не менее он регулярно обращался к языку религии и демонстрировал глубокое знание христианской истории, символики и философии. В своих историко-философских работах о Канте и Декарте он открыто высказывался об их позициях в вопросах Бога и души, временами вставляя слова «религия», «бог» или «дух» почти в каждое предложение. То же самое относится и к его лекциям по истории философии и культуры, в которых шла речь об истории христианства, о роли символа в христианской образности (например, распятого Христа) и о значении веры как философской проблемы. В циклах лекций о Канте и Декарте религия представляла преимущественно исторический и антропологический интерес. Он не мог полагаться на веру как на выход из абсурдистского парадокса, подобно С. Кьеркегору, согласно которому абсурд служит условием самой веры (абсурдность существования Богочеловека) и одновременно отрицается через «прыжок веры». Мамардашвили больше привлекала антропологическая направленность абсурда Кафки, где никакие «прыжки» за пределы собственной человеческой природы невозможны.
Язык религии играл важную историческую и структурную роль в творчестве Мамардашвили. Он использовал язык религии для описания экзистенциальных проблем, которые представлял как нерелигиозные по своей природе. С одной стороны, он прибегал к символическому резонансу религиозного лексикона, который, как он утверждал, выполнял в европейской культуре функцию языка этики и был необходим, чтобы «отличить человека, стремящегося к добру, от человека доброго, т. е. отличить добро как психологическое качество… отличить от добра» [Мамардашвили 2018]. С другой стороны, если проследить за религиозными метафорами во всем его творчестве, мы не только увидим, как философия Мамардашвили