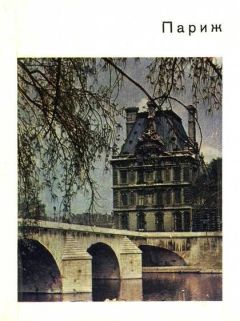«Ковчег затворился, и на землю пала ночь… Мир, который Ной созерцал в ночи потопа, был миром исключительно внутренним…» [112] Между 1905 и 1911 годами, в день, который точно неизвестен, Марсель Пруст начал придавать форму своему роману.
«Мы знали, — говорит Люсьен Доде, — что он пишет какое-то произведение, о котором упоминал вскользь и будто извиняясь». По его письмам, то тут, то там, можно догадаться об идущей работе. Разрозненные отрывки из книги появляются в виде очерков в «Фигаро»: «Боярышник белый, боярышник розовый»; «Лучи солнца на балконе»; «Деревенская церковь». В 1909 году Марсель читает Рейнальдо Ану первые двести страниц и остается удовлетворен теплотой приема. В том же году он советуется с Жоржем де Лори о названии «Германты» и о разбивке произведения на тома. Скрываясь за плотным занавесом болезни и тайны, Пруст молчаливо устанавливает декорации и заставляет своих персонажей репетировать. До 1905 года он не нашел в себе силы принести настоящее в жертву воспоминаниям. Сюжет романа тоже его ужасал: «Достоин жалости и не ведом никаким Вергилием поэт, идущий сквозь смоляные и серные круги Ада, чтобы, бросившись в низвергнутый с неба огонь, вывести оттуда какого-нибудь обитателя Содома…» Смерть родителей, созревание его мыслей, а также, без сомнения, некое внезапное озарение — все это привело к тому, что он взялся, наконец, за работу. Он чувствовал себя очень больным. Проживет ли он достаточно долго, чтобы осуществить свой труд? Он знал, что его мозг был «богатым рудным бассейном, где имелись несметные и весьма различные ценные залежи…» Но хватит ли ему времени разработать их?
Книга, которую ему предстоит написать, будет большой. «Ему понадобилось бы много ночей, быть может, сто, быть может, тысяча…» Эта книга будет такой же большой, как «Тысяча и одна ночь» но совершенно другая. Чтобы написать ее, ему потребуется бесконечное упорство и мужество. «Я жил в лености и беспутстве удовольствий, в болезни, лечении, причудах; я затеял свой труд накануне смерти, ничего не смысля в своем ремесле…» Он сказал где-то, что от легковесности его спасла лень, а от лени болезнь. Это точно. Без своего первоначального рассеяния он бы начал писать слишком рано и произведения слишком скороспелые, слишком легковесные, а без недугов, которые становились все тяжелей, вынуждая его оставаться дома и всех приучить к своему столь странному образу жизни, он не смог бы сохранить за собой долгое одиночество, без которого не способно родиться ни одно значительное произведение.
Он прожил еще пятнадцать месяцев на улице Курсель, в квартире, где умерли его родители, «чтобы исчерпать срок арендного договора», затем, в конце 1906 года переехал на бульвар Осман, 102, в дом, принадлежавший вдове его дяди Жоржа Вейля, магистрата.
Марсель Пруст госпоже Катюс:
«Я не мог сразу же решиться на переезд в какой-нибудь дом, в котором Мама никогда не бывала, и на этот год поднанял квартиру своего дяди в доме № 102 по бульвару Осман, куда мы с Мамой порой приходили ужинать и где я видел, как умер мой дядя, в комнате, которая будет теперь моей, но которая и без этих воспоминаний со своими золочеными украшениями на стенах телесного цвета, с пылью квартала, беспрестанным шумом и вплоть до деревьев, упирающихся в окно, очевидно, весьма мало отвечает тому, что я искал!..»
Марсель захотел, чтобы и в этой новой комнате его кровать и ночной столик, который он называл «шлюпкой» — место для книг, бумаг, перьевой ручки и ингаляционного набора, были расположены так же, как на бульваре Мальзерб и улице Курсель, «чтобы по диагонали видеть входящих посетителей, а слева иметь дневной свет — в тех случаях, когда его впускали, и слева же — тепло от камина, огонь которого был обречен вечно оставаться либо слишком жарким, либо слишком слабым…» [113] Книги, наваленные на «шлюпке», почти все были позаимствованы у друзей. Во время переезда семейная библиотека оказалась погребенной под мебелью, люстрами, коврами, слишком многочисленными для квартиры меньшего размера, так что Марсель не мог добраться ни до одной из своих собственных книг. Ему случалось давать взаймы Жоржу де Лори только что купленных им Сент-Бёва или Мериме со словами: «Оставьте себе. Если мне понадобится, я его у вас попрошу. У меня он все равно потеряется…»
Переезд был для Марселя исходом на чужбину и трагедией. Он по привычке посоветовался со всеми знакомыми. Госпожа де Ноай однажды была вызвана к телефону служащим Управления Версальских водоемов, который с простоватой добросовестностью осведомился у нее, «советует ли она господину Прусту нанять квартиру на бульваре Осман?» Госпожа Катюс получила многочисленные письма: «Не считаете ли вы, что обстановка Маминой комнаты (синей) слишком пыльная, или же она подойдет для моей комнаты? Находите ли вы ее красивой? Предпочли бы вы для маленькой гостиной эту мебель, или ту, что из Папиного кабинета на улице Курсель?..» И если очаровательным глазам госпожи Катюс угодно было наткнуться на умывальники, то какой был лучше? Не могла бы она купить персидский ковер для большой гостиной? А слишком большие для новых стен шпалеры — стоит ли их обрезать или подвернуть?
Главное, чтобы она уберегла его от любого шума! Если другим жильцам дома требуется произвести какие-нибудь работы, то не состоит ли их долг в том, чтобы приглашать рабочих ночью, потому что днем он, Марсель, спит? Госпожа Катюс нашла миссию затруднительной. Тогда, в свою очередь, была мобилизована госпожа Строс. Не знает ли она того господина Каца, матушка которого приводит в движение столько дьявольских молотков? Не могла бы она попросить его, чтобы работы начинали не раньше полудня? «Я заплачу ей любое возмещение, какое она только пожелает… Я добился от другого жильца, что он свои работы производит с восьми (вечера) до полуночи…» Но Марсель предпочитал, чтобы госпожа Кац не приглашала рабочих вовсе: «Поскольку без толку рекомендовать им работать с другой стороны и шуметь поменьше, давать им всевозможные чаевые, и привратнику тоже, их первейший ритуал все равно состоит в том, чтобы разбудить соседа и вынудить его разделить их оживление: Гремите, молотки и клещи!» и они вкладывают прямо какое-то религиозное рвение в то, чтобы этого не упустить…»
Госпожа Строс, ироничная и преданная, пригласила господина Каца к обеду, но его мать продолжала возводить «невесть что! Ибо за столько месяцев дюжина мастеровых, грохоча каждый день с таким неистовством, должна была воздвигнуть что-нибудь столь же величественное, как пирамида Хеопса, которую люди, выходящие из дома, непременно заметили бы с удивлением между магазином «Прентан» и Сент-Огюстеном…[114]» Когда пирамида Каца была закончена, настал черед господина Софара: «Господин Строс сказал мне, что в былые времена в синагоге софарами называли звонкие трубы, которые будили на Суд даже мертвых. Нет большой разницы между теми и нынешними». Сама привратница дома была призвана вмешаться: «Госпожа Антуан, я был бы вам признателен, если бы вы узнали, что происходит у доктора Гаже, где теперь стучат поминутно… В четыре часа над моей головой что-то долбили, приколачивали. Были ли это рабочие, механик, слуга? Постарайтесь выяснить, что это было, и черкните записку по этому поводу сегодня вечером или завтра, если вас не затруднит…»[115]