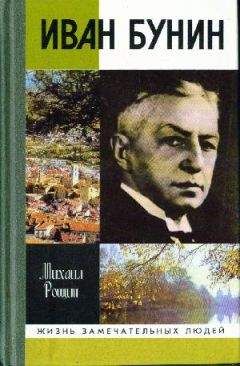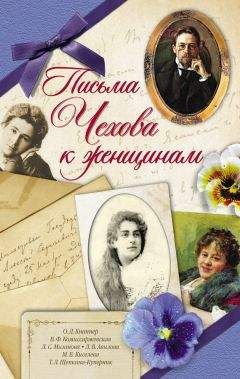Бродяжничество в натуре художника, в крови, — о, прелесть этих юношеских скитаний! Беспечно ехать незнамо куда, повинуясь одному своему зову, просто географическому названию, или провожая друга, а то, увлекшись мимолетным женским личиком, вскочить в вагон и оказаться наутро уже в Питере, в Риге, еще где. Выпить в буфете вокзальном с офицерами-моряками, и — с ними — уже в Севастополе: Примбуль, Малахов курган, Херсонес, Балаклава. А дальше — Крым: чуть не пешком, на ослике татарском, на волах, — как выйдет, — Бахчисарай, Яйла, Байдарские ворота, и море, море, наконец, господа хорошие! Ялта, Мисхор, Ореанда, Массандра, настоящий херес и настоящий брют!.. А куда ваш пароход? На Одессу?.. Когда?.. Уже отходите?.. А что, не махнуть ли в Одессу?.. Одесса, порт, лестница, привет Александру Сергеевичу!.. В трамвае, по дороге на Большой Фонтан, — некая милая дамочка, нерусская, ловко складывающая легкие фразы, оказалась женой какого-то писателя… Оставайтесь, можете у нас переночевать… А то еще можно в приморской степи выйти пешком на цыганский костер, зацепиться взглядом за черные веселые девичьи глаза, тоже заночевать прямо на земле, на сене, завернувшись снизу и сверху в воняющий паленой шерстью старый тулуп… А Киев! Днепр! Целоваться, сидя на Владимирской горке в бурьяне с Лидой Ващук или как уж ее звали!..
А там, далее, Канев, могила Кобзаря, — оказывается, какой хороший поэт был Тарас Шевченко! И уж какая судьбина выпала, горькая жизнь-невзгода… Мир вокруг огромен, надо поехать к пирамидам, или в Палестину, Святую землю, — все увидеть, оглядеть своими глазами.
У Бунина была страсть к путешествиям, бродяжничеству, — всю жизнь. Должно быть, еще с юношеских прогулок пешком или верхом по окрестным полям, лесам, селам вошла в него тяга к свободному и одинокому движению, возбужденно-обостренному вглядыванию в привычное, наблюдению за всякой мелочью и фиксации ее в себе, обрисовке словом. Путешествия — страсть к новым местам, приключениям, городам, незнакомым еще людям, природе, стихиям, — грозе, буре, метели, желание все испытать, быть тем и другим, подобно артисту, в разных ролях, быть охотником и дичью, играя порою и самою жизнью, — «есть упоение в бою и бездны мрачной на краю» — покорять пространства, стихии, противников, женщин, целое общество, — быть жадным, устремленным, отважным, гореть. В пути, у окошка особенно хорошо сочиняется, проверяется задуманное, повторяется. Остаешься один на один с собою, с любимой думой, — горы, поля, леса, деревни, лошаденки, огни, облака, закаты, — все мимо, мимо, но присутствует и действует, точно музыка. Вот так, должно быть, путешествовали Пушкин, Байрон, Лермонтов, молодой Толстой. «А горы! — говорит Оленин в „Казаках“. — А горы!..»
Иван Алексеевич путешествовал в Италии, Турции, на Балканах, в Греции, Палестине, Алжире, Тунисе, он добирался до Индии, до Цейлона. Любил пароходы, порты, острова, океан, новые моря и новые земли. Конечно, он видел, как расслоен, разителен контрастами своими современный мир, как по-разному живут в нем разные люди. Принято считать, что никогда не затрагивали его социальные проблемы, политика, общественная борьба. Он и сам откровенно признавался: «Я не касался в своих произведениях политической и общественной злободневности, я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни реалистом, а меж тем судьба русского писателя за последние десятилетия часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем, вышел ли он из „народа“, был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в той „литературной революции“, которая, — в большей части из-за подражания Западной Европе, — столь шумно подделывалась в эти годы среди быстро развивающейся в России городской жизни, ее новых критиков и новых читателей из молодой буржуазии и молодого пролетариата. Кроме того, я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал по России и за границей… Я, как сказал Саади, стремился обозреть лицо мира и оставить в нем „чекан души своей“, меня занимали вопросы психологические, религиозные, исторические».
В 1915 году Ивану Алексеевичу Бунину уже сорок пять лет. Он бодр, изящен, живет напряженной и внешней и внутренней жизнью. В мире идет война, Россия ее на глазах проигрывает, миллионы людей гибнут, страдают, но никто из рядовых простых российских граждан ничего, как у нас водится, поделать не может. Бунин говорит, беседуя с родственником своим Пушешниковым (это их — Васильевское, Глотово, Пушешниковых): «Я — писатель, а какое значение имеет мой голос? Совершенно никакого. Говорят все эти Брианы, Милюковы, а мы ровно ничего не значим. Миллионы народа они гонят на убой, а мы можем только возмущаться, не больше. Древнее рабство? Сейчас рабство такое, по сравнению с которым древнее рабство — сущий пустяк». Бунин редактировал свое собрание сочинений, писал стихи и рассказы, весной вышла его новая книга «Чаша жизни». Он бывает в Петербурге, встречается с Горьким, Чуковским, Репиным. Он перечитывает Тургенева — «Дворянское гнездо» и остается недоволен, хотя любит и чтит Тургенева всю жизнь. И как-то в городской суматохе, в Москве, в витрине книжного магазина случайно видит обложку книги Томаса Манна «Смерть в Венеции», — название дало «затем, уже в Орловщине, толчок ассоциативному движению мысли», он вспомнил о внезапной смерти какого-то американца на Капри, «и тотчас решил написать „Смерть на Капри“, что и сделал в четыре дня».
В дневнике осталась запись:
«14–19 августа писал рассказ „Господин из Сан-Франциско“. Плакал, пиша конец…И Сан-Франциско, и все прочее (кроме того, что какой-то американец действительно умер после обеда в „Квисисане“) я выдумал».
Выдумывал и сам плакал, пиша конец!.. Вот вам и привет опять от Александра Сергеевича, родника нашей литературы: «Над вымыслом слезами обольюсь…»
Впоследствии Бунин множество раз редактировал рассказ, сокращал, чистил, в целом работы выйдет поболее, чем в четыре дня. Но, — я уже говорил, он приучил, научил себя писать рассказы, как стихи, — вдруг, единым выливом, разом, и даже этот, весьма густой, плотный, а развести, как бульон, кипяточком, то и огромным окажется, целой повестью, — все-таки он сжат кулаком и бьет кулаком, этот удивительный, один из самых знаменитых в мире рассказов, переведенный на все человеческие языки и всем известный.
Бунинская мощь, бунинский прием и принцип (уже выверенный, проверенный) писать как бы ни о чем, без пространного сюжета, «разработки» героев и приспособления к какому-нибудь направлению, кроме направления собственной мысли, — все здесь явилось в совершенном, законченном виде.