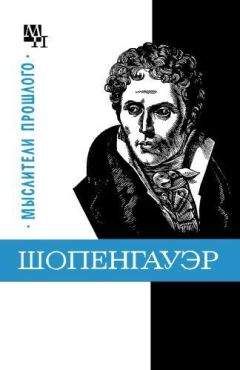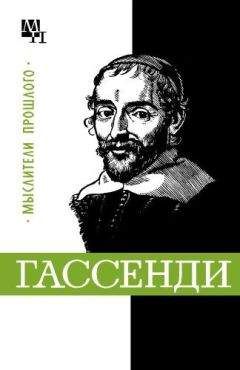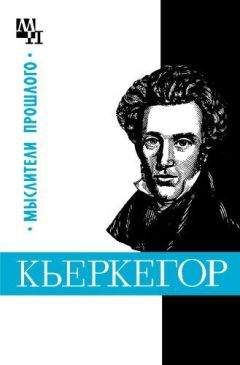А что есть на деле это вздорное «доказательство»? Не что иное, как «дерзкое требование перерезать бесконечную цепь причинности» (5, I, 15), ринуться в бездонную пропасть беспричинности. Но неумолимый закон причинности «не позволяет распоряжаться с собою, как с извозчиком, которого, доехав до цели, отпускают восвояси» (5, I, 33). Первопричина столь же несуразна, как первоначало времени или граница, где начинается или кончается пространство, столь же немыслимые contradictio in adjecto. В космологическом доказательстве, останавливающемся на первопричине и не желающем идти дальше, принцип причинности «как бы кончает самоубийством» (5, II, 43).
Принцип причинности неразлучен с бесконечностью. Он обязывает понимать всякое возникновение иного, нового, как преобразование, превращение чего-то ранее существовавшего, но никоим образом не допускает перехода из небытия в бытие того, чего раньше совсем не было, творение из ничего. А на этом как раз и держатся все разглагольствования о сотворении мира, о том, что бог «извлек из себя, родил» мир, — лжеучение, несовместимое с законом достаточного основания, убеждающим, что мир является безначальным, что «мир не создан, ибо он был… от века».
Но вслед за этими словами следует аргумент, ограничивающий все опровержение космологического доказательства… миром как представлением, феноменальным миром явлений: «Ведь время, — гласит § 110 „Новых паралипомен“, — обусловлено познающими существами, т. е. миром, а мир — временем». Вся остроумная и веская полемика против космологического доказательства, влекущая Канта к агностицизму, у Шопенгауэра значима лишь в пределах научного, а не метафизического познания.
Шопенгауэр использует опровержение космологического доказательства для критики абсолютного идеализма «нашего дорогого Гегеля». Вот какую штуку, пишет он, придумали после-кантовские «философских дел мастера»: они просто-напросто перекрестили бога в Абсолют, переодели космологическое доказательство в одежды «абсолютной идеи», без которой не было бы ничего. Абсолют — «это звучит необычно, прилично и важно, а чего можно достигнуть у немцев важничанием, это мы очень хорошо знаем» (5, I, 34). И вот под именем Абсолюта «путешествует incognito космологическое доказательство» (5, I, 101). А не путешествует ли оно также incognito, — спросили бы мы Шопенгауэра, — в мире не как представлении, а как воле под именем абсолютной мировой воли, волюнтаристического Абсолюта? Не меркнут ли во тьме волюнтаристического идеализма, возносящегося над законом достаточного основания и причинной закономерностью в метафизическое царство иррационализма, все столь убедительные аргументы против causa sui? Правда, теперь уже это не божественная воля, но ей приписываются все функции отвергаемого Шопенгауэром божественного провидения. Коренное различие между Абсолютами Гегеля и Шопенгауэра в том, что первый — Абсолют рационалистический, второй — иррационалистический, первый — логичен, второй — алогичен. Надо все же признать, что разумный Абсолют имеет нечто общее с божьей волей, хотя она и логически неисповедима, тогда как Абсолют неразумный, шопенгауэровская безбожная Воля, в этом отношении расходится с божьей волей.
Но ни одно из всех мнимых доказательств не является столь чуждым всему духу мировоззрения Шопенгауэра, как физикотеологическое, презрительно уподобляемое им «кераунологическому» (громоносному) доказательству для народа (5, III, 50). Оно раздается словно гром среди ясного неба, явно лишенное всякого логического основания. «Три великих человека совершенно отвергли телеологию, или объяснение из конечных причин… Эти трое — Лукреций, Бэкон Веруламский и Спиноза. Но у всех у них достаточно ясен самый источник отрицательного отношения к телеологии: именно они считали ее нераздельной от спекулятивной теологии» (5, II, 347). Если у Канта критика этого (как и космологического) «доказательства» основывается на сведении его к пустословию онтологического «доказательства», то у Шопенгауэра его ниспровержение покоится на всей целокупности его пессимистического мировоззрения, на пронизывающее всю его философию убеждение в неразумности и бессмысленности мироздания.
Теодицея, неразлучная с физикотеологическим доказательством, — это антитезис к архитезису шопенгауэрианства. Осуждая теодицею как вздорное и нелепое умопомрачение, он нокаутирует теизм сокрушительным ударом по вере во всемогущее, мудрое и благое божественное провидение.
Основной мишенью издевательств над теодицеей, этой философской адвокатурой телеологического доказательства, Шопенгауэр, естественно, избрал «предустановленную гармонию» Лейбница, оправдывающую господа бога от непреложных обвинений в царящем в якобы сотворенном и опекаемом им мире зле и страдании. Именно Лейбниц изложил эту теорию «во всей ее чудовищной нелепости». Но нет ничего удивительного в том, что он прославил себя этой своей теорией: «Нелепому скорее всего везет в мире» (7, II, 344–345).
Лейбниц, развивая явно софистическое доказательство, что этот мир есть лучший из возможных миров, является «основателем систематического оптимизма» (там же, 243–244). А этот обманчивый оптимизм служит у него свидетельством божественного провидения. Шопенгауэр ссылается на письмо Лейбница к Никэ, в котором он пишет: «Конечные причины, или, что то же самое, созерцание божественной мудрости в строе вещей», не оставляя сомнений в идентичности своей теодицеи с телеологическим доказательством. «А дьявол? — следует за словами Лейбница реплика Шопенгауэра. — И он то же самое?» (5, II, 347). Разве он с полным основанием не может взирать на содеянные им «конечные причины», на свое «провидение»?
Что такое «провидение»? Это, поясняет Шопенгауэр, «христианизированное понятие судьбы, превратившееся в божественную волю, направляющую в мире все к лучшему» (7, III, 291).
Но если и верно, что «судьба всемогуща, а потому бороться с нею — самое смешное из всех дерзновений», ибо вопреки «шутовскому коньку всех неучей» — свободе воли все предопределено и предназначено (там же, 290), то абсолютно ложно, что в мире — все к лучшему. Как раз наоборот, и хотя совершенно очевидно, что мир существует, но — саркастически вопрошает Шопенгауэр — «я хотел бы знать только, кому от этого какая польза?» (5, IV, 450). И, глядя на существующий мир, «полный горя, вражды с самим собою, ошибки, глупости, злобы», существующий «благодаря тому, чего не должно быть» (5, IV, 442), гораздо справедливее было бы сказать, что не бог, а «дьявол создал мир» (там же, 443).
Опровержение физикотеологического доказательства бытия бога срастается у Шопенгауэра с самой сердцевиной его философии — с пессимистической безнадежностью, с нетерпимостью к оптимизму в любой облицовке, включая наиболее ослепляющую — теологическую. Существующий мир — «худший из возможных миров… Мир так дурен, как только быть может, если он вообще еще быть должен» (7, II, 244, 247).