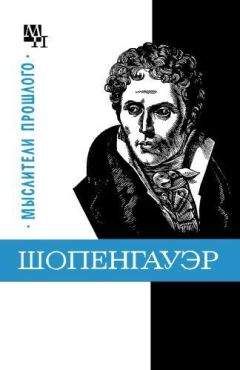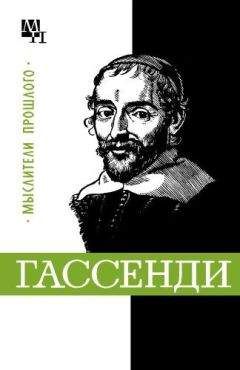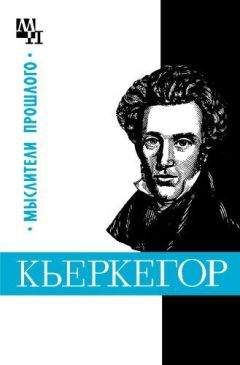Опровержение физикотеологического доказательства бытия бога срастается у Шопенгауэра с самой сердцевиной его философии — с пессимистической безнадежностью, с нетерпимостью к оптимизму в любой облицовке, включая наиболее ослепляющую — теологическую. Существующий мир — «худший из возможных миров… Мир так дурен, как только быть может, если он вообще еще быть должен» (7, II, 244, 247).
В своей статье «Системы, проблемы, лейтмотивы» В. Р. Корти, характеризуя лейтмотив умонастроения Шопенгауэра, резонно констатирует, что «для Шопенгауэра невозможна никакая теодицея. Этот мир страданий, преступлений и бедствий не может быть творением мудрого, благого и всемогущего создателя… Для Шопенгауэра король является голым. Его (Шопенгауэра) слепая воля не есть бог и не может быть богом… Бог и не умер, ибо он и не жил… Все мнимо утешительные, возвышенные иллюзии отпадают» (47, XLIX, 48). Величайшая заслуга книги Лейбница, заключает Шопенгауэр свой анализ «Теодицеи», в том, «что позднее она дала повод великому Вольтеру написать его бессмертный роман „Кандид“ (5, IV, 447). А читая „Божественную комедию“, „почти невозможно удержаться от предположения, что сам Данте втайне имел в виду сатиру на такой порядок вещей“, который господствует во всемирной божественной трагикомедии» (7, III, 298).
Шопенгауэр, опровергая ортодоксальные доказательства бытия бога, не отождествляет, однако, религию с теизмом. Религия относится к теизму, наделяющему бога «признаком личности», как род к отдельному виду. Критика космологического доказательства, отвергающая первопричину, в равной мере отвергает тем самым и деизм.
Вместе с тем опровержение онтологического и телеологического доказательств служит достаточным основанием также и для отмежевания от пантеизма. Шопенгауэр подвергает критике только «номинальный», а не «истинный» характер, который приобретает понятие бога в учении Спинозы, то отношение, которое «так называемый бог» имеет у него к миру. «Безличный бог — это contradictio in adjecto» (5, I, 12), понятие, которое само себя уничтожает. Бог обратился у Спинозы в мир, а не противопоставляется миру, как в ортодоксальном теизме. Тем не менее «пантеизм Спинозы только реализация онтологического доказательства» (5, I, 14): божественные атрибуты приписываются реальному миру. Шопенгауэр не признает Спинозу скрытым атеистом, лишь именующим мир словом «Бог». И он дает философии совет: во избежание недоразумений «сохраняйте за словами их значение… и потому называйте мир — миром, а богов — богами» (5, III, 133).
Пантеизм — реализация не только онтологического доказательства, но и доказательства телеологического. «ибо в пантеизме мир — это бог ens perfectissimum, т. е. ничего лучшего быть не может» (5, II. 365), — реализация теодицеи. Пантеисты, придавая неизвестной им сущности мира титул «бог», полагают, «что делают этим нечто серьезное. Если верить им, то мир — какая-то теофания. Но пусть они не закрывают глаза на этот мир» (5, II, 359), худший из возможных миров.
Критику пантеизма Шопенгауэр распространяет и на замаскированную терминологией абсолютного идеализма гегелевскую философию. Мировому разуму «ложно и дерзко» приписывается сверхъестественная мудрость, абсолютность, бесконечность, т. е. по сути дела Разум обожествляется, бог фигурирует под псевдонимом Абсолютной идеи. В этой части шопенгауэровской критики следует различать две стороны: рациональную, направленную против решения основного вопроса философии абсолютным идеализмом, и иррациональную, направленную против рационализма, как такового, против панлогизма, устремляющего философию к безграничному рациональному познанию всего существующего[12]
Антирелигиозная тенденция философии Шопенгауэра не ограничивается, однако, критикой претендующих на логическое доказательство бытия бога теологических построений. Опровержение Кантом этих доказательств побудило теологов (главным образом протестантских) и их философских поборников перестроиться. А зачем, собственно, доказывать бытие бога? «Дело, мол, само по себе так ясно, что смешно было бы еще его предварительно доказывать». Ах, если бы это раньше знали! Тогда в течение столетий не пришлось бы трудиться над подобными доказательствами, и Канту не надо было бы обрушиваться на них со всею тяжестью «Критики разума» (5, I, 110–111). Словом, дело обстоит точно так же, как в басне о лисице с зеленым виноградом: недоказуемость нисколько не колеблет веры в бога, она непоколебимо держится на гораздо более прочной основе, чем логические доказательства, она зиждется на неприступном для логики откровении. Господин фон-Шеллинг, ехидно замечает (на сей раз с полным основанием) Шопенгауэр, постиг это в своей философии откровения.
Итак, опровержение доказательств бытия бога вынудило богословов перевооружиться фидеизмом. Разуму противопоставляется откровение, «совершенно чуждое философии и только увеличивающее путаницу» (6, 38), ибо «для света откровения, как и для других светил, необходимо условие некоторой темноты» (5, I, 108), а свет разума тому помеха. И если вдуматься как следует, на чем собственно основывается теизм, то ответ будет такой: «1) на откровении, 2) на откровении, 3) на откровении и больше ни на чем в мире» (5, IV, 491).
Для фидеиста вера не только не нуждается в знании, она не считается с ним, игнорирует его, пренебрегает им, оттесняет его. Она властвует над сознанием сама по себе, самодержавно. Она подавляет разум. «Религия в течение 1900 лет держала разум в наморднике» (5, IV, 492). «Страшно подумать, — говорит Филалет в упомянутом диалоге Шопенгауэра „О религии“, — что каждому человеку, где бы он ни появился на свет, с самых юных лет внушаются известные положения с предупреждением, что малейшее сомнение в их справедливости приведет его к вечной гибели» (9, 8). Причем во все времена и у всех народов «религия всегда относилась враждебно к свободному высокому исканию чистой истины» (9. 14). Вера и знание несовместимы — она загораживает путь к нему. «Вера и знание — это две чашки весов: чем выше одна, тем ниже другая» (9, 30). Необходимо выбирать. Одно из двух: либо — либо. «Кто любит истину, тот ненавидит богов, как в единственном, так и во множественном числе» (5, IV, 486).
Какой выбор делает Шопенгауэр, на какую чашку весов кладет он свою философию? «Я, — провозглашает он, — держался истины, а не Господа Бога» (5, IV, 566). И он убежден, что развитие культуры всячески способствует раскрепощению человечества от «тисков», в которых религия всегда держала умы людей. «Как только распространяется свет астрономии, естество-испытания, геологии, истории, географии и народоведения, а затем наконец возвышает голос и философия, всякая вера, основанная на чудесах и откровении, должна исчезнуть, уступив свое место философии» (9, 29). Потребность в знании постепенно вытесняет слепую веру. «Помочи детства» спадают с человеческого ума, он все решительнее «желает стоять на собственных ногах», — писал Шопенгауэр в своей диссертации. «На скале культуры есть точка кипения, где всякая вера, всякое откровение, все авторитеты испаряются, человек стремится к самостоятельному пониманию, готов поучаться, но хочет быть и убежденным» (5, I, 109).