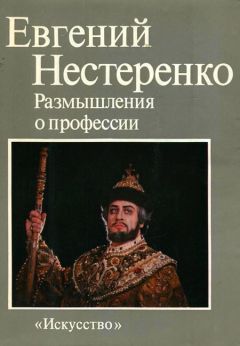Когда певец находится на сцене, поет он или молчит, весь его психофизический аппарат, вся органика должны быть включены в действие, его присутствие должно восприниматься как непрерывная кантилена духовного и физического существования героя. Если я не переживаю то, что пою, если не становлюсь тем человеком, которого играю (чему могут быть разные причины, допустим, плохое самочувствие, какие-то отвлекающие факторы, недостаточная отрепетированность роли и т. д.), значит, образ мною в полном объеме не создан. Когда я на сцене рыдаю, или смеюсь, или ненавижу, или боюсь, то весь мой организм участвует в действии. Другое дело, что «второй» артист следит за тем, как действует «первый». Об этом писал еще Ф. И. Шаляпин: что на сцене два Шаляпина, один контролирует другого, — и это верно.
Как известно, есть актеры представления, есть актеры переживания. Себя я отношу к актерам переживания, но это никак не исключает контроля. Полная свобода жизни на сцене, полная свобода перевоплощения достигается, разумеется, именно с помощью включения всего психофизического аппарата певца в действие. Когда возникают помехи — допустим, дирижер, с которым я не репетировал, так как он неожиданно заменил заболевшего коллегу, — значительная часть внимания отвлекается на это, и тогда я выступаю, скорее, как актер театра представления. Но тем не менее я стою за искусство переживания.
В опере существуют актеры неталантливые и одаренные, и те, кого мы считаем одаренными, мне думается, примерно поровну делятся на актеров искусства переживания и искусства представления, в то время как в драме актеры искусства представления встречаются значительно реже. Очевидно, причина все в том же, о чем я уже говорил: артисты в опере подбираются прежде всего по голосовой одаренности, а уж какой он там актер — дело второе. Так и получается, что обучиться набору шаблонов сценического поведения, существующих у артиста театра представления, гораздо легче, чем изучить и постичь систему Станиславского, которая может открыть любому, даже не слишком одаренному человеку путь к искусству переживания. Дело это трудное, требующее длительной работы, значительных усилий, и поэтому нередко артисты музыкальных театров идут по более легкому пути — быстро овладевают штампами, учатся демонстрировать искусственный темперамент, и вместе с хорошим голосом и внешностью это, к сожалению, иногда сходит за исполнительский талант.
Лаури-Вольпи в своей книге «Вокальные параллели» пишет, сравнивая двух теноров, что один из них плакал на сцене настоящими слезами, и публика оставалась холодна, а другой пел, контролируя свои эмоции, но люди в зале плакали. Верно — если артист действительно плачет, это вовсе не означает, что публика обязательно будет заливаться слезами. Мне кажется, что вызвать в себе такое состояние, когда твой герой начинает плакать, и сохранять при этом контроль трудно. Я так делать не могу. Не встречал я никогда и артистов, которые, плача, поют. Но не могу не рассказать о моих партнершах по сцене, которые настолько глубоко проживают судьбу своего персонажа, что это вызывает у них натуральные слезы. К этому моменту пение для них уже заканчивается, но их партнеру еще предстоит петь, и слезы эти ему очень помогают.
Прежде всего речь идет о нашей выдающейся солистке Большого театра Елене Васильевне Образцовой, певице с ярчайшей индивидуальностью. В «Хованщине», в сцене Марфы и Досифея в Стрелецкой слободе, она достигает удивительной силы накала страстей и после слов: «…и смертью плоти дух мой спасется» — заливается настоящими слезами. Как естественно из этих слез рождается пение Досифея! «Марфа! Дитя ты мое болезное… Меня прости — из грешных первый аз есьмь. В господней воле неволя наша, идем отселе. Терпи, голубушка, люби, как ты любила, и вся пройденная прейдет».
Талантливая, очень своеобразная американская певица Мария Юинг вела роль Мелизанды в «Ла Скала» так, что, когда ее героиня навек засыпает, по щекам артистки текли слезы. Так было на всех репетициях и на всех спектаклях. И мне, как партнеру, заметив, что она плачет, было легче говорить: «Ses yeux sont pieins de larmes» («Ее глаза полны слез»), я мог более органично спеть заключительный монолог старого Аркеля. Конечно, публика слез ее не видела, она узнавала о них только из моих слов. Возникает вопрос: а зачем тогда вообще Мария Юинг плакала в этой сцене, ведь в тот момент она просто тихо умирала на своем ложе и больше уже не пела и не принимала участия в действии? Но, очевидно, такова была линия развития ее образа. Она целиком проживала жизнь своего персонажа, заключенную не только в ее пении, но и отраженную в словах и в музыке партнера. Это высочайший пример искусства переживания и верное отношение к роли, как к действию, которое длится во время всего твоего пребывания на сцене, а иногда даже… во время твоего отсутствия.
Помню, как после моего выступления в роли Бориса в 1976 году в Будапеште, вызвавшего большой интерес прессы, так как я был первым советским артистом, певшим в этой постановке, сделанной по окончательной авторской редакции партитуры, один из критиков писал, что образ Бориса «чувствовался» не только в тех сценах, где я играю, но и в сценах, где я отсутствую. Так и восхитительный образ Мелизанды в исполнении Марии Юинг, после того, как она сыграла свою первую сцену, чувствовался и в других сценах, — где ее нет.
Иногда встречаешься с таким взглядом на работу оперного артиста: я, мол, стою — пою, а что там выражается у меня на лице и что выражает моя фигура, мои движения — неважно. Важно, что мне для пения удобно так стоять и «поливать звуком» зал. А кончил петь — начал играть. Это неумелые артисты, играют они плохо, все чувства выражают преувеличенными, «театральными» жестами (ручку к сердцу и т. п.). Но тем не менее подобная манера игры существует. А бывает и так — отпоет такой артист и вовсе считает свое дело сделанным, стоит, ждет, пока поет другой, и вроде бы даже скучает в это время.
Подобная точка зрения — показатель полного непонимания смысла оперного спектакля и певческого искусства вообще. Именно пение, именно музыка рождает движение, выражает душевное и физическое состояние персонажа — и побуждает актера к действию. Действие, которое продолжается на сцене после того, как ты отпел, — тоже твое. Окончание пения в твоей партии вовсе не значит конца музыки, она продолжается в оркестре, выражает твое состояние, когда ты молчишь. Бывает, что на сцене происходит диалог или разговор нескольких лиц, тогда ты тем более участвуешь в действии, слушаешь, что тебе говорят, улавливаешь реакцию на свои слова. Иногда активнее становятся твои партнеры, иногда хор, иногда оркестр. Но и в таком случае следует продолжать свою линию жизни на сцене. Паузы, которые есть в твоей партии, вовсе не означают, что полностью выключается один из многих инструментов громадного оркестра, инструмент, название которому — оперный артист. Певец в опере может иметь паузу в звуковой партитуре, но в сценической партитуре пауз у него не существует.