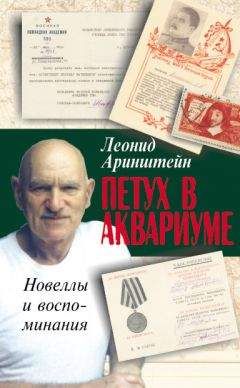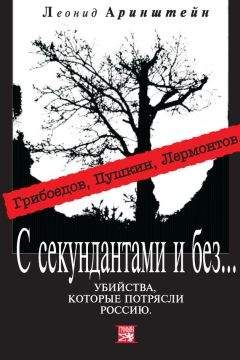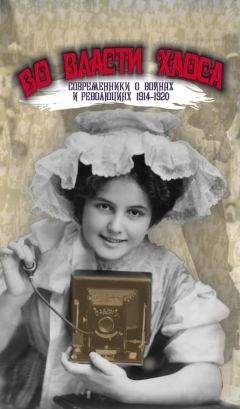Ознакомительная версия.
(III, 389)
Ни слова о том, что он разделял убеждения декабристов, сказано не было. В контексте ответа это означало только одно: да, я вышел бы 14 декабря на площадь, потому что там были мои друзья, которых я люблю, но не потому, что я разделял их взгляды. Через несколько недель Пушкин написал об этом уже более определенно: «Недостаток просвещения и нравственности вовлек многих молодых людей в преступные заблуждения» (XI, 43). И далее в черновике эти «заблуждения» характеризуются как стремление осуществить преждевременные политические изменения, «у нас еще не требуемые ни духом народа, ни общим мнением, [еще не существующим,] ни самой силой вещей…[160] [Несчастные представители сего буйного и невежественного поколения погибли]» (XI, 311).
Говорили (вероятно) об оде «Вольность», именно за нее был выслан Пушкин шесть с лишним лет назад: вполне естественно, что при освобождении поэта из ссылки причина ее так или иначе фигурировала в беседе.
Надо полагать, что в ходе этой беседы Пушкин сумел донести до Императора нравственно-правовое содержание «Вольности» и «Бориса Годунова». И здесь очень важно представлять, насколько диаметрально противоположным должно было быть восприятие этих произведений Александром и Николаем, то есть монархом, «в ком совесть не чиста», против которого, собственно, и направлены оба произведения, и монархом законным, которого эти произведения не только не затрагивают, но в каком-то смысле выгодно отличают от его предшественника. Последнее было далеко не безразлично для Николая, вступившего на трон в трудной ситуации: военный мятеж, неясность с актом о престолонаследии, казнь пятерых декабристов… И всё это на фоне «благословенного» царствования Александра, никогда к смертной казни не прибегавшего, Царя – героя Отечественной войны…
Едва ли прошла мимо внимания нового Императора содержащаяся в «Вольности» идея главенства Закона, не допускающего его нарушения ни монархом, ни подданными; и выразительный пример – казнь Людовика XVI во время Французской революции и кара, обрушившаяся за это на французов в лице еще более кровавого диктатора – Наполеона:
Восходит к смерти Людовик
В виду безмолвного потомства,
Главой развенчанной приник
К кровавой плахе Вероломства.
Молчит Закон – народ молчит,
Падет преступная секира…
И се – злодейская порфира
На галлах скованных лежит.
(II, 46)
Вероятно, именно в этом контексте и возник разговор о 14 декабря, пересказанный Пушкиным.
Вот, собственно, что произошло 8 сентября 1826 г., когда уставший, невыспавшийся, изнервничавшийся и уже готовый разделить участь декабристов опальный поэт неожиданно оказался воскрешен к полнокровной жизни и был щедро осыпан милостями нового Государя. Это был поистине перелом судьбы, перепутье, потребность переосмыслить и нравственно переоценить многое из того, что представлялось ему истинным в годы ссылки. На это умонастроение как на один из глубинных смыслов стихотворения «Пророк» указывает поставленная под ним дата – 8 сентября.
Стихотворение в том виде, как оно дошло до нас, представляет собой окончательную, третью или четвертую по счету редакцию «Пророка», о чем пойдет речь ниже. Пока же мы говорим только об этой окончательной редакции.
Стихотворение, как известно, строится на поэтическом переложении соответствующих мест Библии. Используя яркие образы и лексику пророческих книг Исайи, Иеремии и Иезекииля, Пушкин создает развернутую поэтическую метафору своей собственной судьбы – всего, что довелось ему пережить: годы ссылки, благодарность Царю, освободившему его от ссылки, оценка своего прежнего творчества, надежды на будущее:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился, —
И шестикрылый Серафим
На перепутьи мне явился.
Перстами легкими как сон
Моих зениц коснулся он.
Отверзлись вещие зеницы…
(III, 30)
Милость Императора не осталась без ответа. Шла об этом речь или нет, но стремительно разворачивавшаяся в Чудовом дворце ситуация не могла не вызвать у Пушкина ответных нравственных обязательств. И действительно, с сентября 1826 г. в его творчестве исчезают эпиграммы, затрагивающие Императора и его приближенных, прекращается неуважительная трактовка религиозной тематики, не встречаются более проникнутые политическим романтизмом стихотворения (подобные юношеским «К Лицинию» и «Кинжал»):
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
Наконец, результатом беседы было осознание Пушкиным высокой нравственной миссии, возложенной на него Императором, как на первого поэта России. Ощущение опального поэта, незаслуженно отлученного от столичной жизни и находящегося в оппозиции к власти, сменяется ощущением первого поэта, творчество которого не только благосклонно признается, но и получает благословение первого лица Российской Империи:
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал…
(здесь прямая параллель с тем, что Пушкин скажет впоследствии в стихотворении «Друзьям»: «Текла в изгнаньи жизнь моя…») —
Как труп в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, Пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
(III, 30–31)
8 сентября 1826 [161].
К слову о датах. Даты под пушкинскими стихотворениями не всегда означают время их создания. Нередко Пушкин ставил дату для того, чтобы соотнести содержание стихотворения с тем или иным знаменательным событием, случившимся именно в этот день. Например: 19 октября – день лицейской годовщины, 26 мая – день рождения Пушкина (эта дата поставлена к стихотворению «Дар напрасный, дар случайный») и т. д. Такого рода даты несут особую смысловую нагрузку: прочитываемый в их свете поэтический текст обретает дополнительный смысл, как правило, ускользающий без учета этой даты, без понимания того, с каким важным событием соотносит поэт метафорику и образность стихотворения.
Тем же вечером 8 сентября
После встречи с Пушкиным Император Николай отправился на бал, устроенный в его честь французским посланником герцогом де Мармоном.
А что Пушкин? Никто его не ждал. Никто не знал о его приезде. В Москве он не был пятнадцать лет, с самого детства. И он отправился по единственно знакомому ему адресу – на Басманную, к дяде Василию Львовичу. Ему хотелось отоспаться, снять нервное напряжение последних дней и часов, обдумать, наконец, всё то, что случилось…
Ознакомительная версия.