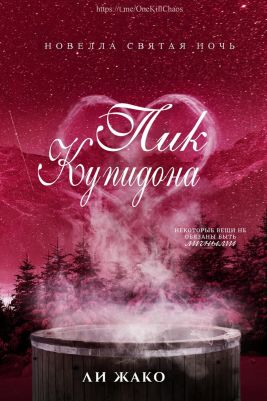бросился бы за борт и покончил с этим. Ему приходилось не только тащить на себе больше, чем можно вынести, но и идти по жизни в обратном направлении. Как еще можно смотреть на это, если подобное уже случалось несколько лет назад с Хэдли [10].
Наверное, Файф тоже это чувствует. Она должна все понимать: тогда она была любовницей и хотела добиться Эрнеста, неважно, каким способом. Ей было все равно, через кого придется перешагнуть. Какие бы сейчас моральные ценности она ни переосмысливала, он должен дать ей эту возможность. У Эрнеста были свои проблемы и очень мало ответов. Раз подобная история случилась с ним дважды, значит, с ним что-то не так, возможно, с самого начала. Может быть, это мать с отцом погубили его, а может быть, он сам. Возможно, ему не дано быть счастливым только с одной женщиной, или он просто не нашел ту единственную.
Кто знает ответ? Кто, если уж на то пошло, знает хоть что-нибудь о любви?
Лекции должны были быть посвящены тем урокам, которые я извлекла из войны, — вот на что я соглашалась. Но, когда я вернулась в Америку и начала разъезжать на поезде из штата в штат, дико петляя по стране и читая двадцать две лекции в месяц, я поняла, что никто не хочет слушать о мужественных и благородных добровольцах интернациональных бригад — всем только и нужно было, чтобы я называла Франко палачом и сумасшедшим или выказывала сомнения в выбранной Америкой политике нейтралитета. Одним словом, они не хотели правды.
Вскоре я поняла, что чтение лекций — самое одинокое занятие. Я переезжала из города в город, где говорила с людьми, которые никогда не отвечали. У меня был час, всего один час, для того чтобы поделиться всем, что я узнала, и сделать это надо было быстро и страстно, чтобы разбудить в них интерес к происходящему в мире. Но в то время, когда я испытывала отчаяние, слушатели только кивали, слушая мои речи. Потом они жали мне руку и говорили, что я их вдохновляю, но я-то хотела их напугать. Приходилось объяснять, что ситуация в Испании ужасна, и если не вмешаться, причем быстро, война, вероятно, придет за всеми нами. Но они просто продолжали жевать бутерброды с кресс-салатом, а потом тщательно подкрашивали губы.
Мне хотелось кричать, но кто меня услышит? С каждой лекцией ставки казались все выше, а энергия все более безумной и отчаянной. Я похудела на четырнадцать фунтов — еда для меня превратилась в песок. Я не могла сомкнуть глаз и постоянно звонила маме поздно ночью, угрожая все бросить.
— Геллхорны не разрывают контрактов, Марти, — настаивала она. — Ты найдешь выход.
Но у меня не получалось. В конце концов я лишилась оплаты, большую часть которой собиралась отправить в Испанию, и, взяв взаймы, решила поехать в Барселону одна. С каждым днем новости из Испании становились все более удручающими. Армия Франко направлялась к Средиземному морю, намереваясь отрезать Барселону от Валенсии и Мадрида. «Хейнкели» продолжали бомбить города, все улицы были залиты кровью. Армия лоялистов, сопровождаемая длинными колоннами беженцев, отступала почти на всех фронтах. Сироты, заполнившие больницы, давно уже не плакали, не кричали — их черные глаза казались пустыми и потухшими.
Новая мировая война надвигалась на нас с ужасающей скоростью. Испания уже стояла на коленях. Я чувствовала себя такой отчаявшейся и убитой горем, измученной и униженной, что не заметила, как начала писать Эрнесту. Я отправила телеграмму в Ки-Уэст, но не домой, а в его любимый бар «Неряшливый Джо», уверенная, что он ее получит. И он получил.
— В последний раз, — сказала я, когда он позвонил мне в Сент-Луис. — Все катится к черту, и мы должны быть там. — Услышав, как дрожит мой голос, я подумала, что наверняка пугаю его. Я и саму себя пугала. У меня наготове была куча аргументов, и я собиралась умолять его.
Но он лишь сказал:
— Когда приземлишься в Барселоне, сообщи мне — и я тебя найду.
Я сразу почувствовала себя увереннее. Сердце перестало бешено колотиться. Я снова могла дышать.
— Хорошо, — ответила я ему. — Обязательно.
— Марти?
— Да?
— Когда все закончится, поехали со мной на Кубу? Скоро все страны, о которых мы переживаем, падут. Все изменится.
Я так себя измучила и истрепала, что все вызывало слезы.
— Мы говорили, что у нас никогда не будет Кубы.
— Мы просто пытались быть храбрыми. Не думаю, что жизнь без тебя — это то, что мне нужно.
Эрнест выбил меня из колеи. Я уже давно хотела того же, но какой в этом смысл? Просто мечта? Желание? Он не давал обещаний, потому что не мог.
— Сейчас тяжело об этом думать, — ответила я. — Трудно поверить, что все снова будет хорошо. Когда война действительно придет за всеми, это будет самое страшное и ужасное, что только можно представить. Ты видел, что пишут о Гитлере. Он даже хуже Франко.
— Вот почему нам остается полагаться только друг на друга. Ты самая сильная женщина, которую я знаю. С кем бы я еще захотел оказаться в окопе?
Я была слишком уставшей, чтобы отвечать ему. Вскоре мы закончили разговор, и я, нервно закурив сигарету, пыталась вспомнить, о чем он говорил. Куба. Вместе. Какая комбинация слов может быть невозможнее этой? Может быть, счастье и покой. Будущее и мы в нем, вместе и в безопасности.
Часть 4. В окопах
(Февраль 1939 — январь 1940)
Когда я сошла с парома в Гаване, отовсюду хлынул ослепительный солнечный свет, заливая ярким жаром сандалии и плечи, проникая сквозь белую блузку, будто ее на мне и не было. Может, и так. Может быть, солнце и море способны растопить все, что угодно, — усталость, страх и разбитое сердце, — обновив меня, залатав раны и вернув способность двигаться дальше.
Я надеялась на это. Весь прошлый год был адом. Мы вернулись в Барселону еще раз, когда она уже пала. Восемнадцать налетов за сорок восемь часов сровняли город с землей, но бомбардировщики все равно продолжали атаковать, уничтожая все на своем пути. Беженцев было бесчисленное множество, люди голодали. У большинства с собой имелись лишь небольшие свертки — все их пожитки. И было страшно от мысли, что после такой долгой и самоотверженной борьбы их ждет столь унизительный и безнадежный конец: они остались без Родины.
Шесть недель Эрнест, Том Делмер и