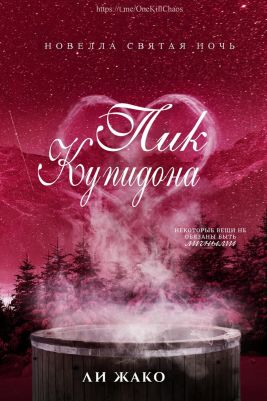я докладывали о потерях и переменах на линии фронта, передвигаясь вместе с конвоем по дорогам, заполненным отступающими войсками, семьями и фермерами с изможденными быками. Однажды ночью мы сначала услышали, а затем и увидели, как тридцать итальянских бомбардировщиков разрезают небо с таким ужасным звуком, какой трудно себе представить. Нам пришлось выбежать из машины и броситься в кювет. Пригнувшись, Эрнест крепко сжал мою руку. Мы на мгновение встретились взглядами, гадая, не конец ли это. Но самолеты, проревев над нами, улетели в сторону Тортосы. Они были похожи на жестоких серебряных валькирий, стремящихся к абсолютному разрушению. Вся эта война, вероятно, была напрасной с самого начала, но ее идеалы были прекрасны. И мне было страшно представить, что нас ждет дальше.
Когда фашисты достигли моря, мы наблюдали, как раненые волной хлынули через французскую границу, и, пока я готова была оплакивать каждого из них, Эрнест принялся за работу. Он обратился к американскому послу во Франции с просьбой разработать план эвакуации американцев. Британский флот отправил спасательные корабли в испанские порты. Мы знали, что, когда республиканское правительство рухнет, войска Франко начнут захватывать, сажать в тюрьмы и даже казнить американцев, оказавшихся в тылу врага.
Я никогда не видела Эрнеста таким неутомимым и самоотверженным. Он помогал собирать деньги для тех, кто был изувечен и ранен, и когда «Колльерс» телеграфировал, чтобы я отправилась на новое задание, Эрнест остался, готовый помочь любому в трудный момент. Он помчался на лодке, идущей к истоку реки Эбро, где застряла группа солдат из Интернациональной бригады. И каждые несколько дней отправлял мне сообщения из мест, по описанию напоминающих нижние круги ада Данте. Я волновалась за него, но было легче оттого, что мы постоянно поддерживали связь, не притворяясь, что можем все вынести.
Почти год я разъезжала по Европе в одиночку. Постоянно писала для «Колльерс», прощупывала пульс наций, находящихся на грани войны. В июне тридцать восьмого я уехала из Парижа в Прагу. Чуть меньше двух месяцев назад Гитлер вторгся в Австрию и объявил ее частью Германии. И похожая судьба, вероятно, ждала Чехословакию и судетских немцев.
Я объездила все пограничные области страны, тревожась все больше и больше за будущее Чехословакии, которая была домом для более чем трех миллионов судетских немцев. С трех сторон ее окружал Германский рейх. Гитлер давил на президента Чехии Эдварда Бенеша, чтобы тот сдался. Бенеш просил помощи у Франции и Англии. Повсюду царило мрачное настроение, как в операционной, где нельзя получить эфир ни за какие деньги.
Моя статья называлась «Вперед. Адольф!». Таким громким призывом я хотела предупредить американских читателей о том, что вся Европа на грани войны. Не было уже никакого «если», все задавались вопросом «когда?». Я отправилась в Англию, затем во Францию, надеясь, что они придут на помощь Чехословакии, пока еще есть время. Но повсюду, куда бы я ни приезжала, я наблюдала лишь отрицание и самодовольство. Я снова и снова слушала, как британский премьер-министр Невилл Чемберлен все повторял мантру о том, что война до них не дойдет.
Пока я находилась в Англии, был подписан Мюнхенский пакт — и Чехословакии пришел конец. Я поспешила обратно в Прагу и обнаружила, что граница кишит нацистами. Еще через неделю одиннадцать тысяч квадратных миль территории были поглощены, превратившись в Судетенлацд. Чемберлен и премьер-министр Франции Даладье, по сути, своими руками отдали волкам целую страну. Я едва могла дышать, думая об этом.
Я написала еще одну статью и назвала ее «Некролог демократии», рассказав в ней о том, что видела: евреи, спасающие свою жизнь, бегут из Германии в Австрию, но где теперь Австрия? Чехи, опущенные на колени в оккупированной нацистами Праге, дети с затравленными глазами, бродящие по улицам в одиночестве, ведь их родители уже исчезли в трудовых лагерях. Теперь никто и ничто их не спасет. Когда я готовила статью, я была уверена, что «Колльерс» ее не опубликует, но он это сделал. К тому времени как она ушла в печать, я решила покончить с Европой, поклявшись, что никогда туда не вернусь. Я написала длинное письмо матери и еще одно Элеоноре Рузвельт, стараясь выкинуть из головы трусость, которую встречала повсюду, все ужасы Хрустальной ночи, коррупцию, беспомощность, боль, отчаяние. Я чувствовала себя больной и усталой. Во мне не осталось оптимизма. Я больше не знала, во что верить. «Но я никогда не пожалею о времени, проведенном в Испании, — писала я им обеим. — Это единственное, за что я до сих пор благодарна».
А потом я сбежала.
Куба уже много лет была убежищем Эрнеста. Когда в Ки-Уэсте становилось слишком жарко или когда его жена и дети делались слишком требовательными, он уплывал на своей любимой яхте «Пилар» в отель «Амбос Мундос» в Гавану, чтобы писать. На самом деле он снимал номера в двух разных отелях, работал в «Амбосе», спал и получал почту в «Севилье-Билтморе», так что его нельзя было найти ни днем ни ночью, если он сам этого не хотел.
Мне было не по себе от символизма всего происходящего. Он параллельно жил двумя жизнями и прекрасно с этим справлялся, а может быть, даже получал от этого удовольствие. Только какой из его жизней принадлежала я?
После Барселоны, бросив попытки держаться подальше и быть благоразумной и позволив себе погрузиться в любовь с головой, со всеми существующими рисками и неопределенностями, я попыталась получить от него прямой ответ о Паулине. Он то обещал, что скоро порвет с ней и женится на мне, забрав к нам сыновей, то смущенно тянул время и просил еще немного подождать. Я никогда не видела его таким инертным, и меня это пугало.
— Она знает, что я здесь, не так ли? — Я спросила у него сразу, как только приехала на Кубу в феврале тысяча девятьсот тридцать девятого. — Она точно знает.
Он пожал плечами, едва встретившись со мной взглядом.
— Я понимаю, как тебе плохо, Зайчик, но скоро все уладится. Обещаю.
«Зайчик» стало новым прозвищем, которое он для меня придумал. Как и всё другое новое, что мы испытывали друг на друге в этой непонятной, непредсказуемой любви. Все правильные слова уже были сказаны, за исключением «чистилище». Я никак не могла понять, почему что-то должно было решаться само собой, ведь он в любой момент мог взять все в свои руки и уладить. Почему он чувствовал себя таким увязшим, таким запутавшимся, когда решение казалось очевидным.
— На самом деле, это так