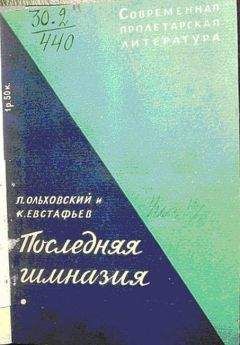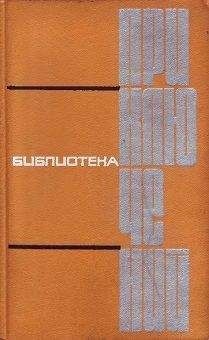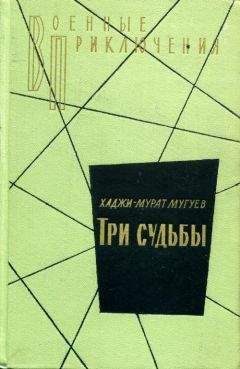Может быть, раньше других увидел Шварца совершенно иначе Пантелеев, «увидел вплотную, заглянул ему поглубже в глаза и понял, что он не просто милый обаятельный человек, не просто добрый малый, а что он человек огромного таланта, человек думающий и страдающий», мастер «в самом высоком, самом прекрасном смысле слова».
Воспоминания Пантелеева и освещены этим проникновенным взглядом. Много значительного узнает читатель о драматурге. Но больше всего удивляют эпизоды, где автор очерка показывает своего друга в работе. Он все время искал себя, «искал свой слог», просиживал часами над каждой страницей, был постоянно, «каждый час и каждую минуту поглощен работой, даже на прогулке, за едой, даже когда шутил и говорил о вещах посторонних». Как трудно, оказывается, давалась ему каждая строка, а ведь так и кажется, что искрометные «Золушка», «тень», «Голый король» писались легко, на одном дыхании.
На страницах этого очерка часто возникает имя Чехова — писателя, который для Шварца был самой большой любовью, хотя, казалось бы, «то, что делал Шварц, было так непохоже, так далеко от чеховских традиций».
Но для автора очерка между этими именами устанавливалась какая-то особенная связь. Тем и дорог он был бесконечно Пантелееву, что так же, как Чехов, «всю жизнь он воспитывал себя», и о нем можно сказать словами, какие Бунин написал о Чехове: «До самой смерти росла его душа…»
Каким глубоким чувством окрашены эти воспоминания! Но ведь и на самом деле, сколько было сказано друг другу, сколько вариантов — сценария ли «дон Кихота», пьесы «Два клена», сотен страниц мемуаров (или, как шутливо их называл их Пантелеев, «ме») — было выслушано в чтении Шварца! Сколько было хожено вместе по тем дорогам и тропинкам поселка Комарово, где и по сей день автор очерка помнит каждый камень, каждый корень под ногами, каждую сосенку или куст можжевельника.
Есть в очерках общая черта — открытость авторского чувства, проявляющая себя во всем, идет ли речь о благодарности, о любви или о безысходной горечи потери. Он не может забыть Шварца. Нет ни одного дня, когда, случись ему оказаться в знакомых местах, он бы «не встретил на своем пути Евгения Львовича». Нет, разумеется, не о призраках идет речь.
«Я имею в виду, — пишет он, ту могучую, титаническую силу, с какой запечатлелся этот человек в моей (и не только в моей) памяти.
…Вот он возник в снежной дали, идет на меня, высокий, веселый, грузный, в распахнутой шубе, легко опираясь на палку, изящно и даже грациозно откидывая ее слегка в сторону наподобие какого-то вельможи XVII столетия.
Вот он ближе, ближе… Вижу его улыбку, слышу его милый голос, его тяжелое, сиплое дыхание.
И все это обрывается, все это — мираж. Его нет. Впереди только белый снег и черные деревья».
Большим и признательным чувством продиктованы страницы очерка «Рыжее пятно» — о Горьком, как-то Пантелеев спросил у Алексея Максимовича: когда он успевает читать такую уйму книг? «Ну как же… — ответил Горький. — Ведь все-таки хозяином себя чувствуешь». Молодой писатель не сразу понял смысл этого ответа. А потом ему стало ясно: «Горький сказал это так, как и следовало сказать законному наследнику Пушкина, Гоголя и Толстого. Он не был бы Горьким, если бы не понимал своего места и своей миссии в истории русской литературы», если бы «не чувствовал себя в ответе» за каждого советского литератора, «за каждую строку, ими написанную и напечатанную».
В интонации рассказчика звучит высшее уважение. Но рядом с этим прекрасным чувством по мере знакомства с Алексеем Максимовичем, который столько раз бывал дружественным, сердечным, близким, возникает и другое. Он начинает понимать, что Горький «не только великий писатель, классик, основоположник новой русской литературы, что он еще и чудесный, добрый, тончайшей души человек». И что он любит своего старшего друга, любит «уже не как писателя, не как Максима Горького, а — просто, по-человечески, нежной и преданной сыновней любовью».
Воспоминания Пантелеева проникнуты желанием как можно полнее высветить личность их героев. Автор все время как бы в тени, он лишь слушатель, собеседник, наблюдатель. Но постепенно из этих воспоминаний возникает образ самого повествователя, человека высокой профессиональной и нравственной культуры, всегда прямого и честного в своих суждениях, надежного в отношениях с людьми. И начинаешь понимать, почему, почему дарили его своей дружбой и доверием многие замечательные люди.
* * *
В этом же разделе «Рассказов и очерков» писатель поместил воспоминания-очерки о поездках по своей стране (например, «Гостиница Лондонская»), по зарубежным странам. В 1962 году по приглашению Союза немецких писателей и Магистрата Большой Берлин он посетил ГДР. В последний раз он был там в 1977 году. В 1971 году с группой писателей и с женою Элико Семеновной он совершил поездку в Швейцарию, в 1973 — в Японию.
Впечатления от этих поездок нашли отражение в нескольких рассказах: «Экспериментальный театр», «Рейс № 14–31-19», «Земель», в очерке «От Невского до Курфюрстердамм». С огромным интересом смотрит Л. Пантелеев на памятники мировой культуры, но не меньшее внимание привлекают люди: ему хочется понять, о чем думают, чем живут они сегодня, помнят ли уроки истории, знают ли, какой ценой завоеван мир на земле.
В одном городке Швейцарии его вместе с женой и товарищами по поездке пригласили на спектакль в Экспериментальный театр. Актеры, игравшие на сцене маляров, красили свои объекты самой настоящей краской, и крупные брызги попадали на зрителей. И хотя сидящие в первых рядах автор и его жена оказались в «зоне огня» (это эпизод написан с неповторимым юмором), и хотя они не понимали многого, о чем так горячо говорили на сцене, пьеса взволновала их, вызвала сопереживание с сидящими в зале. Потому что один из героев, старый маляр, говорил об атомной войне, говорил с ужасом, «и становилось и в самом деле страшно. Особенно нам, ленинградцам, тем, кто перенес войну и блокаду».
А потом началось дружеское застолье, гости и хозяева перезнакомились, обменивались тостами. Все шло хорошо, пока сидящая неподалеку от Элико и автора ведущая актриса театра (которая, как выяснилось, была к тому же и школьной учительницей) не обратилась к ним с вопросом: «Вот вы говорите: «Мы — ленинградцы, мы из Ленинграда». А что это такое — Ленинград? Это — новый город? Нет? А как он назывался прежде?»
И хотя название Петербург было ей знакомо и вызвало у нее определенные ассоциации: «Достоевский!.. Раскольникофф!.. Сонья!.. Брюдер Карамазофф!», состояние ошеломленности уже не покидало автора. Против него сидела интеллигентная женщина, актриса, жена человека, который осуществил постановку антивоенной пьесы, «но она ничего, ровным счетом ничего не слышала о нашем городе, о его подвиге и о его трагедии».