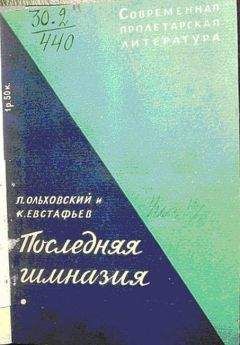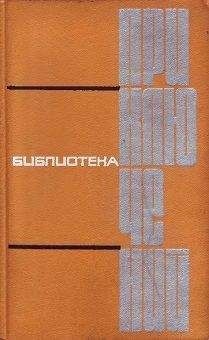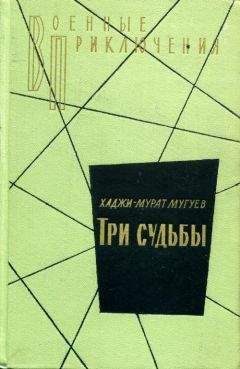А потом началось дружеское застолье, гости и хозяева перезнакомились, обменивались тостами. Все шло хорошо, пока сидящая неподалеку от Элико и автора ведущая актриса театра (которая, как выяснилось, была к тому же и школьной учительницей) не обратилась к ним с вопросом: «Вот вы говорите: «Мы — ленинградцы, мы из Ленинграда». А что это такое — Ленинград? Это — новый город? Нет? А как он назывался прежде?»
И хотя название Петербург было ей знакомо и вызвало у нее определенные ассоциации: «Достоевский!.. Раскольникофф!.. Сонья!.. Брюдер Карамазофф!», состояние ошеломленности уже не покидало автора. Против него сидела интеллигентная женщина, актриса, жена человека, который осуществил постановку антивоенной пьесы, «но она ничего, ровным счетом ничего не слышала о нашем городе, о его подвиге и о его трагедии».
Как будто что-то переломилось в сознании рассказчика, и, когда все возвращались узенькими пустынными средневековыми улочками, которые были пусты точно так же, «как были они пусты в это время и триста, и пятьсот, и восемьсот лет назад», ему вдруг показалось, что они «и в самом деле очутились в каком-то ином времени», и люди, с которыми они шли, тоже «показались… почему-то очень далекими».
Воссоздавая эту историю в рассказе «Экспериментальный театр» (содержание его не ограничивается только этим сюжетом), автор в эпилоге как бы расставляет необходимые акценты. С симпатией думает он о той актрисе, но одновременно остро ощущает разницу между тем, что знает и представляет о мире она, и сто знает и понимает он.
«…Ах, как ясно вижу я и с какой горькой нежностью вспоминаю этот бедный ужин в дешевом подвальном ресторане и эту маленькую швейцарскую женщину, которая тридцать лет прожила на свете и не знала, слыхом не слыхивала, что стоит на земле такой городок — Ленинград».
Какую, однако, власть имеет слово! Напиши Пантелеев вместо «городок» привычное «город» — и все было бы совсем не так. А вот оттого, что нашел и поставил в конце рассказа это уменьшительное «городок», произошло чудо, волшебство: стократ возвеличился, поднялся город в своей силе и красоте.
Рассказ «Земель» отличает точная и выверенная конструкция. Сюжет его держится на двух эпизодах: есть вечер, проведенный героями — автором и его женой — за чаем в гостиничном ресторане Эрфурта, есть первомайское утро, прогулка по праздничным улицам Берлина.
Как раз на этой прогулке и случается происшествие, как будто не такое уж само по себе значительное, но вызвавшее целую бурю в душе писателя.
Первой заметила это Элико:
«— Нет, ты посмотри!!!
Я посмотрел. Паренек лет тринадцати мелкими пасовками… гнал мяч, отыскивая лазейки в узком лабиринте между гуляющими.
— Ты только взгляни, чем они играют! — схватила меня за руку Элико.
Я вгляделся и вдруг услышал, как вся моя кровь с грохотом хлынула в голову».
Вместо мяча «футболист» гонял по грязной мостовой белую булочку — по-немецки «земель».
Охваченный гневным чувством, не помня себя, писатель бросается к парню: «Что ты делаешь?!! Оставь! Сейчас же! Негодяй! Тебе не стыдно? Это же хлеб! Хлеб! Это — хлеб!..»
Гнев этот справедлив и сам по себе, но он особенно понятен, если знать, что разговор с женой накануне был воспоминанием о днях войны, о погибших братьях Элико и о многом другом, пережитом ими. В свою очередь, долгий этот разговор тоже не был случайным. В гостиничном ресторане за их столом оказался человек, поразивший их своим сытым равнодушием, своей бездуховностью, полным безразличием ко всему, что не касается лично его.
Конечно, совсем по-разному смотрит автор на того случайного соседа (как они его прозвали, Барабека) и на парня, который гонял вместо мяча булочку. Да к тому же парень оказался девочкой, даже «черноволосой девчоночкой». Интонация рассказа становится мягче, в ней появляются более теплые нотки, писатель уже немного посмеивается над собой, представляя, как он выглядел в этой истории.
Но булочка, привезенная в Ленинград, засохшая и окаменевшая, лежит за стеклом его книжного шкафа, лежит как нечто очень памятное «рядом с фотографией… покойной мамы», тоже ленинградской блокадницы.
Находясь в Японии, писатель с тревогой и волнением ждал встречи с Хиросимой. Рейс туда не состоялся, но город этот стал для него словно знакомым, потому что в аэропорту, ожидая вылета в Хиросиму, он свел дружбу с маленькой девочкой-японкой.
В этих рассказах — «Экспериментальный театр», «земель», «Рейс № 14–31−19» — перед нами тот же, уже хорошо знакомый нам герой, который сам видит и учит других видеть жизнь, учит человечности, доброте, но если надо, то и непримиримости.
Значительную часть «Приоткрытой двери…» составляет ее последний раздел — «Из старых записных книжек (1924–1947)»; мы часто обращались к материалу этого раздела, но всегда эпизодически, отрывочно, и цельного представления о нем у читателя могло не получиться.
Предваряя небольшим вступлением публикацию «Из старых записных книжек», писатель пытается найти определение работе подобного рода. С удивлением он констатирует, что литературоведение такого определения не дает.
Между тем он убежден: записная книжка литератора — это не только, как замечается в толковом словаре, «маленькая тетрадь для заметок», но еще и литературный жанр. Потому и работы над подготовкой записных книжек — такой же труд, как и подготовка любого произведения литературы к печати.
Читать записные книжки не так просто. Схваченный писателем на лету, «не предугаданный» материал сначала несколько ошеломляет: подряд идут без переходов то поговорка или изречение, то вывеска или надпись на заборе, то заголовок в периферийной газете или бытовая сценка, то острое или певучее слово, детская «лепая нелепица». Неоднороден, конечно, и характер записей — иногда это коротенькая заметка, иногда готовая миниатюра, законченный рассказ или пейзажная зарисовка. Иногда это заготовки к будущей книге, путевые заметки или необходимые для автора размышления о проблемах литературного мастерства, вызванные чтением, скажем, Чехова или Бунина.
Но постепенно ощущение лоскутности материала исчезает, за его пестротой начинает обнаруживаться определенность, может быть, даже какая-то направленность. За пристальным вниманием к разговорной речи, к каждому неординарному словцу или выражению угадывается желание писателя поймать что-то существенное, увидеть, как отражается в языке сознание человека, приобщение его к новой культуре. Стремление наблюдать, узнавать и постигать человека в самых разных проявлениях его сущности ведет автора и в самую гущу базара, вызывает непреходящий интерес к кладбищенским надгробиям, эпитафиям.