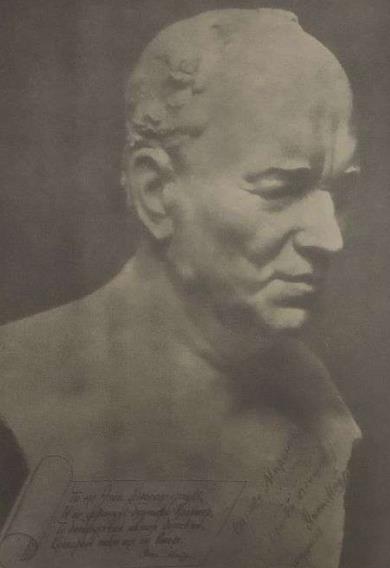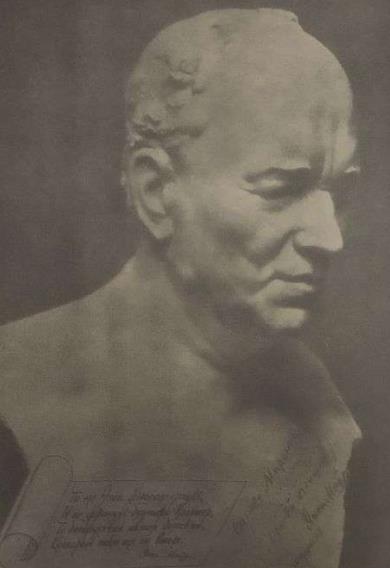решил спросить.
— Из Архангельска? Как же. Переписывался с ним. Жалко, письма сгорели в первые дни войны вместе с квартирой на Ново-Московской.
И опять возвращаясь к эсперанто, Дед не без осуждения в голосе продолжал:
— Не могу понять, почему теперь эсперантистов чуть ли не анафеме предают! Дескать, мертвый язык, искусственный, выдуманный. Я бы ввел изучение его во всех школах, тем более что научиться разговаривать, читать и писать не составляет большого труда. Представляешь, насколько легче было бы нашим людям общаться с иностранцами и во время поездок за границу, если бы они владели этим, как его называют, мертвым языком!
Что-то вспомнив, Иван Михайлович выдвинул средний ящик письменного стола, порылся пальцами в одной, в другой из находившихся в нем коробочек и протянул мне круглый зеленый значок с изображением пятиконечной звезды, цифрой «50» над ней и словом «VETERANO» полукругом внизу.
— Возьми на память. Пятьдесят лет, юбилейная дата советского эсперанто. Нас, ветеранов, осталось по всей стране не больше полутора-двух десятков. Жалко, нет Луначарского: он бы не дал эсперанто умереть.
— Разве и Луначарский им владел?
— Еще как! И он, и Лев Толстой, и очень многие знаменитые на весь мир русские люди.
Не мне судить, насколько были оправданы эти сожаления и горечь Деда. В одном полностью согласен с ним: сейчас, в период международной разрядки, быстрого развития научных, культурных и деловых контактов, роста торговых связей возможность обходиться без переводчиков принесла бы огромную пользу и нашей стране, и нашим зарубежным партнерам. Тем более что очень многие термины и слова прочно вошли в обиход всех народов планеты. В том числе и русские: «Спутник», «СЭВ», «Дружба», «Лада», «МАЗ», «Беларусь».
Правда, в газетах и по телевидению время от времени проскальзывают сообщения-информации, что то в одной, то в другой, то в третьей стране школьники старших классов, студенты и так называемые деловые люди все охотнее изучают русский язык. Тысячи юношей и девушек, иностранцев, не без успеха овладевают им в наших высших и средних учебных заведениях. Тысячи, пускай даже десятки тысяч,— все равно капля в море для человечества всей планеты! Да и не в русском языке дело. Иван Михайлович был прав, когда говорил о нужности эсперанто как международного языка.
Был прав… Почти всегда оказывался прав в значительном и важном, над чем ни себе, ни другим не позволял шутить…
О серьезном — только всерьез!
И никогда не принимал на веру чье бы то ни было, даже самое «авторитетное» утверждение…
Не секрет, что встречаются порой болтуны, любящие «ради забавы» беззлобно распускать не слишком лестные слухи о своих знакомых и сослуживцах. Мавр с брезгливостью относился к ним:
— Брехуны. Соврет ради красного словца и доволен. Даже если уличат во лжи, все равно не краснеет: дескать, без злого умысла наговорил, просто пришлось к слову.
И наливался гневом, багровел от ярости, услышав или узнав о заведомом мерзавце-анонимщике:
— Судить мало, по самой строгой статье уголовного кодекса о посягательстве на человеческое достоинство надо таких карать! Строчит, подлец, во все инстанции кляузы, обливает потоками грязи ни в чем не повинного человека, а сам втихомолку радуется: пускай-ка докажут, что он не верблюд. Пока разберутся, установят правду — подсчитай, сколько сил, здоровья и нервов на это придется затратить. Некоторые не выдерживают, раньше срока от инфаркта уходят на тот свет. Это же предумышленное убийство! И я бы судил анонимщиков, как предумышленных убийц!
Патетика? Громкие слова и красивые фразы?
Нет!
Мне самому довелось однажды, вскоре после окончания войны, попасть в отнюдь не блистательное положение: мы с первой женой решили развестись. Для трудного, тяжкого этого шага у нас с нею были свои, никого не касавшиеся основания и причины. Но в чем только не обвиняли меня добровольные доброхоты и анонимные сигнализаторы! И требовали напропалую: с работы — выгнать, из Союза писателей — вон!
В то время умели да и любили пошуметь по каждому подобному поводу…
А Мавр хранил ледяное молчание. Хотелось излить ему душу,— ведь ближе него никого не было. Но в ответ на телефонную просьбу о встрече услышал единственное слово:
— Повремени.
Обиделся: неужели и он не верит, считает меня подлецом?
И только когда началось собрание, где должна была окончательно решиться моя судьба. Дед первым попросил слова для выступления.
— Сходил к ней,— бесстрастно начал он.— Специально ходил, чтобы услышать правду. Чайком угостила… Поговорили… Расстались спокойно, без хотя бы слезинки на ее глазах… Сама попросила меня передать, что вся эта некрасивая шумиха, затеянная вокруг их развода, марает позорной мещанской грязью не только ее и его, а в первую очередь тех, кто старается раздуть никому не нужное кадило.
И так же спокойно, как эта, до немоты поразившая «обвинителей», преамбула, Иван Михайлович принялся одну за другой отвергать нелепицы, нагроможденные на меня.
Потом помолчал, будто сомневаясь, стоит продолжать или нет. С минуту подумал в тугой от напряженного ожидания тишине. И саркастически, как он это великолепно умел, усмехнувшись, широко развел руками и сказал:
— Быть может, на самом деле все не так, как я говорю? Кое-что сглаживаю, кое в чем приукрашиваю, а? Что ж, готов выслушать. Есть желающие возразить?
Желающих не оказалось. И тут Янка Мавр дал волю своему гневу.
— Находятся любители-охотники очернить человека, втоптать его в грязь, наплевать ему в душу,— до резкого, обличительного звучания повысил он голос.— К счастью, среди нас не много таких. Но есть: раскаркаются, как кладбищенское воронье, стараются всех заглушить! Не пора ли их за ушко да на солнышко: не смейте отравлять жизнь людям!
С тех пор прошло три десятилетия. Давным-давно у меня сложилась новая семья. Выросли дети. Растут внуки. Нет-нет а и сейчас ловлю себя на мысли: было бы все это, если бы не тогдашнее вмешательство в мою судьбу Деда? Боюсь, что без него могли бы сломать…
Дед все понимал и многое умел прощать: случайные ошибки, проступки не по злому умыслу, обиды, нанесенные под горячую руку. Прощал и серьезное, почувствовав, что человек раскаивается, страдает от укоров собственной совести.
— Повинную голову меч не сечет,— с народно-философском мудростью говорил он в подобных случаях.
И только одно никогда никому не прощал: обдуманную, заведомую подлость.
Готовясь к работе над повестью «Фантомобиль профессорам Циляковского», Мавр, по своему обыкновению, тщательно и скрупулезно собирал новейшие научные данные, необходимые для создания научно-фантастического произведения. Он терпеливо переносил критические «шпильки» по своему адресу, но не мог бы смириться с обвинением