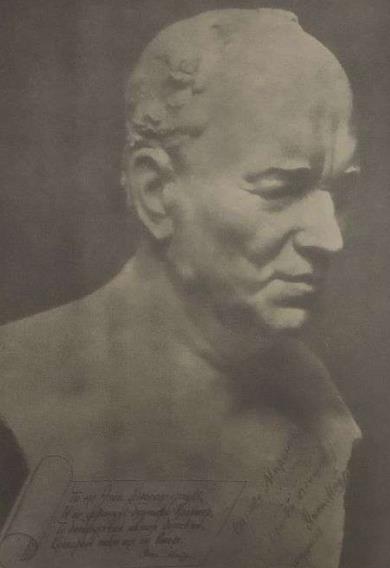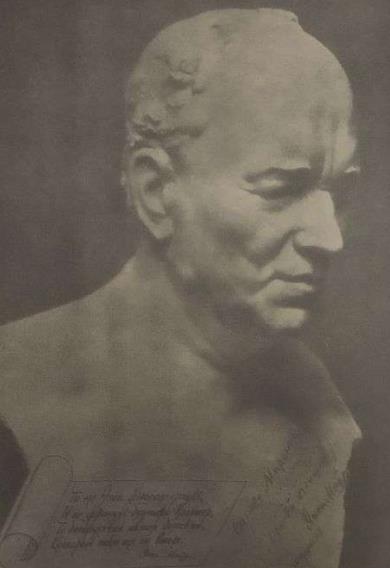в научной некомпетентности или верхоглядстве, а поэтому брал в библиотеке необходимые книги, читал статьи в специальных журналах, осаждал сына, Федора, профессора-физика, вопросами «по существу», требуя популярных ответов на них.
Иначе и быть не могло: повесть фантастическая, отсюда заглавное слово в названии — «Фантомобиль». Самое интересное, считал автор, кроется в неуемной фантазии детей. Кто самый большой фантазер? Ребенок, конечно. И вот отправной точкой для писателя стала фантазия. Фантазия в повести явилась горючим для фантомобиля, и несет она своих героев, куда они только не пожелают. Но в основе фантазии тоже должны лежать точные, строжайше апробированные современной наукой данные. Значит, их надо искать, накапливать и проверять.
Во время нелегких этих поисков Дед и наткнулся на небольшое газетное сообщение, заинтересовавшее его счастливо сложившейся судьбой совершенно не знакомого человека. Приступая к защите степени кандидата наук, человек этот, молодой научный работник, так блистательно написал и так блестяще защитил диссертацию на тему «Кибернетика — лженаука империализма», что ему присудили ее кандидатскую, а сразу докторскую степень.
— Молодец! — от души похвалил Мавр новоявленного доктора, заставив и меня прочитать сообщение о нем.— Светлая голова!
Шло время… Давно была написана повесть о фантомобиле профессора Циляковского и опубликована в журнале «Маладосць»… Все прочнее, все увереннее входила кибернетика в нашу советскую науку и промышленное производство… Как вдруг:
— Ты только послушай, каков подлец! — потряс у меня перед носом Дед свежей газетой.— Пророчит кибернетике великое будущее, доказывает, что мы чуть ли не первыми в мире начали приоткрывать покров над таинствами ее!
— Разве ты с этим не согласен?
— Да кто утверждает, кто? Тот самый, что и лженауку империализма обличал! Каким же законченным подлецом и стопроцентным карьеристом надо быть, чтобы без тени стыда заниматься подобной вольтижировкой!
— Но, может быть, он пересмотрел свои научные взгляды? — попытался я возразить.— Бывает…
— В науке не должно быть! Ошибся — имей мужество публично признать ошибку, а не увиливай от нее, по-щенячьи поджимая хвост! Эх, встретиться бы с этим флюгером от науки, я бы ему наговорил…
Не встретился, и на том спасибо. Совсем ни к чему лишняя нервотрепка уже далеко не молодому Деду. Тем более что слепота все быстрее и все больше надвигалась на его глаза.
Мы очень боялись этого, а оказалось — напрасно: не пал духом, не поддался недугу ни на день.
В Союз писателей идет на собрание без провожатых, постукивая концом трости по бровке тротуара.
В Коктебеле от калитки дачи до писательского пляжа, а с пляжа домой тоже сам. Только несколько раз позволил проводить себя по неблизкой, со многими поворотами, дороге. И, запомнив количество шагов от поворота до поворота, не терпящим возражений-голосом заявил:
— Теперь обойдусь. Занимайся своими делами.
Обойдется ли?.. Не свернет ли с узкой тропинки, где сворачивать никак нельзя?.. Не напорется ли на острые шипы акаций?.. Не свалится ли в глубокий овраг, протянувшийся в нескольких метрах от тропинки?..
Я решил на всякий случай, для страховки, потихоньку и незаметно сопровождать его в этих ежедневных походах.
Но не вышло, потихоньку и незаметно не получилось. Он шагал и шагал — уверенно, слегка постукивая тростью о пересохшую от жары землю, а я босиком крался за ним до самого спуска к пляжу. Подошел. Остановился. Подозвал меня взмахом руки. Усмехнулся. И с ехидной иронией, преднамеренно растягивая слова, произнес:
— Видал? Еще раз посмеешь, ноге моей больше у тебя не бывать!
Не посмел: как Мавр сказал, так и сделает, никакие извинения и уговоры не подействуют и не помогут. И дальше так продолжал ходить, только сам. Дважды в день, уверенно, смело. И чувствовал себя, судя по всему, бодрее и лучше нас всех.
Даже работу не прекращал, ежедневно диктовал Тамаре новые и новые страницы будущей книги.
Только однажды мы встали в тупик, не зная, что делать и как поступить: когда принесли срочную телеграмму из Минска.
Дед глубоко уважал Якуба Коласа, дружил с ним еще с дореволюционных пор. Когда дочь Ивана Михайловича, Наташа, вышла замуж за сына Константина Михайловича, Михася, Якуб Колас и Янка Мавр породнились. И теперь внезапно — а несчастья всегда случаются внезапно — телеграмма: «Умер Колас подготовь Мавра».
Как удар грома среди ясного солнечного дня! Ведь всего месяц назад, когда Мавр уезжал из Минска, Колас был совершенно здоров.
Легко сказать: «подготовь Мавра». А какими словами сообщить о трагическом известии, чтобы оно не сразило и его? Не лучше ли пока ничего не говорить? Вернется домой, там и узнает…
Но Стефанида Александровна и слышать об этом не хотела:
— Да что ты? Там же Федор, Наташа. Знаешь, как им попадет за то, что не сообщили? И тебе не простит, что посмел утаить телеграмму.
Пришлось решиться.
Поставив посередине большой веранды плетеное дачное кресло, я привел Деда и усадил в него. Спросил, изо всех сил стараясь не выдать волнения:
— Как ты себя чувствуешь?
Но Мавра мнимым спокойствием не обманешь. Приподнял голову, насторожился:
— Что случилось?
— Да вот телеграмму принесли… Не очень, понимаешь ли, приятную… Скорее наоборот…
— Кому телеграмма?
— Мне. Но касается и тебя.
— Из Минска?
— Да, из Союза писателей. От Есакова.
— Значит, с Федором и с Наташей все в порядке. Несчастье с Якубом Колесом? Читай!
И я прочитал.
Дед несколько минут сидел молча, закрыв глаза и опустив тяжелую голову на грудь. Потом поднялся и тоже молча ушел в свою комнату. И до вечера не выходил из нее. Не знаю, о чем он думал, впоследствии мы никогда не касались этой темы, не заговаривали о том тяжелом дне. Но как бы там ни было, а вечером Иван Михайлович опять стал самим собой: спокойный, невозмутимый, медлительно-сдержанный, общительно-ровный. И даже всех нас, выбитых телеграммой из повседневной колеи, сумел во время ужина подбодрить и поддержать неожиданным каламбуром:
— Чудак этот Есаков, честное слово. Одного похоронил, второго велит подготовить. Такое нарочно не придумаешь…
На следующее утро необычно рано Дед сам позвал меня на море.
— Нырнем разок, и домой,— сказал он.— Как раз успеем к завтраку.
Я понял: хочет наедине поговорить. О чем?
Но никакого разговора не состоялось.
Тогда на писательском пляже не было теперешних благоустроенных «благополучий», вроде ребристых деревянных лежаков, кабинок для переодевания и навесов для тени из массивных листов пепельно-серого шифера. И строжайших правил — загорать и купаться только в плавках, в трусах и купальных костюмах тоже не