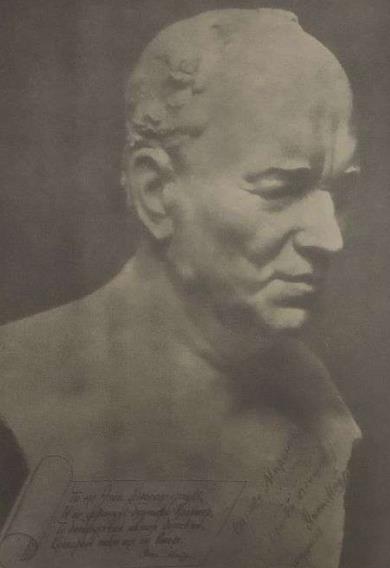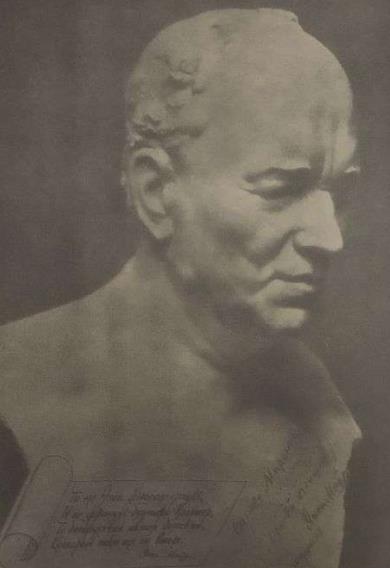же я побывать!
Мы побывали вместе. Еле-еле взобрались по крутому косогору на автомашине-вездеходе, которую удалось выпросить у пограничников. Мавр уже знал, как принято у коктебельцев отдавать дань признательности памяти поэта. Нужно молчать. Принести и рассыпать на могиле горсть разноцветных камешков, собранных на морском берегу, где любил гулять Максимилиан Волошин. Самый большой подарок поэту — прочитать его стихи. Но Дед так взволнован, что едва ли вспомнит их, а может быть, и не знает. Я очень люблю «Окоем».
И я начал:
…Благослови свой синий окоем,
Будь прост, как ветер,
неистощим, как море,
И памятью насыщен,
как земля.
Люби далекий парус корабля
И песню волн, шумящих
на просторе,
Весь трепет жизни
всех веков и рас
Живет в тебе. Всегда.
Теперь. Сейчас…
Назад мы ехали молча. До самого дома. Ни он, ни я не могли разговаривать. И только войдя в калитку, Иван Михайлович вслух высказал то, о чем нам одинаково думалось и в доме поэта, и над его одинокой могилой, и по пути домой:
— Всю жизнь были вместе. И будут… Такую любовь и верность не разлучить…
Во всем он был прав: теперь на вершине горы, рядом с Максимилианом Волошиным, похоронена его жена.
В тогдашнем стремлении Деда познакомиться с Марией Степановной, услышать ее рассказы о муже, глубоко разобраться и понять Максимилиана Волошина как вдохновенного поэта и русского патриота, по-моему, ярче всего проявились исключительные черты незаурядного характера и учителя Федорова, и писателя Мавра. У нас в «Червяковке» весь класс, все школьники никогда не бывали для него безликой и однородной неугомонной ребячьей массой. Иван Михайлович видел в каждом только его одного, ни разу за все годы нашей учебы не спутав ни с кем другим. И к каждому относился так, как тот заслуживал,— не с покровительственной снисходительностью, а с уважением, хотя и неизменно строго. Да, с уважением и строго, больше всего боясь, как он позднее признавался, не только подорвать свой собственный авторитет нелепыми поблажками и равнодушной снисходительностью, но и не ранить, не травмировать, не оскорбить достоинства будущего человека неумными и злобными придирками.
Так было в школе. Так и в жизни.
— Понимаешь,— говорил он,— все люди разные. Но важно жить, а не существовать. Жить в творческом кипении, в непримиримости к плохому, в незатихающей ни на день борьбе за лучшее. Таким был Ленин. Это — жизнь! Счастье, что хороших людей у нас неизмеримо больше, чем плохих. Они, брат, и должны из года в год пополнять ряды партии.
— Должны? Разве не так и есть?
Дед тут же подхватил:
— Конечно, так! Только открой пошире дверь, и обыватель косяком попрет! Поэтому и принимать надо тех, кто идет в партию по зову разума и по велению сердца. Вступая в партию, человек прежде всего обязан спросить самого себя: достоин ли я, принесу ли пользу? Собственной совести не соврешь. И чтобы ответить на этот вопрос, многие затрачивают на раздумья годы.
— А ты?
— Что я… Всю жизнь думаю… Пожалуй, поздновато… Раньше надо было решать…
Отрывистые эти фразы прозвучали с таким укором самому себе, с таким глубоким и понятным сожалением, что у меня невольно перехватило дыхание. Как на экране промелькнули одно за другим незабываемые впечатления.
Последнее лето перед гитлеровским нашествием, прием в члены Союза писателей, сыгравшая решающую роль рекомендация Янки Мавра…
И еще раньше — Минск конца второй половины двадцатых годов, общеобразовательные курсы, безработица…
И совсем дальнее — тоже Минск, наша «Червяковка», разговор в классе после несостоявшегося побега…
Только так и мог поступать коммунист. Всегда и во всем. Откуда же взялось это прозвучавшее укором «поздновато»?
Я не смог удержаться от упрека:
— Эх, Дед, рано ты себе отходную поешь! Готовь необходимые документы. Свою рекомендацию завтра принесу.
С тех пор писатель-коммунист Янка Мавр прожил еще двадцать три года. Прожил, успел сделать очень многое — и как человек, и как писатель, именно тогда подаривший нашей пионерии свои повести «Путь из тьмы» и «Фантомобиль профессора Циляковского».
Все творчество его, от первой и до последней повести, от самого маленького рассказа до объемного многостраничного романа, свидетельствует о том, что Янка Мавр — поистине наш, советский, писатель! Художник, не терпящий социальной несправедливости, фантаст, раскрывающий перед пытливой юностью неоглядные дали будущего, предельно реалистичный интернационалист, патриот высочайшего в мире — коммунистического мировоззрения.
А с кем только не сравнивали Мавра многочисленные исследователи его творчества, кого не пытались навязывать ему в литературные предтечи. Майна Рида и Фенимора Купера, Густава Эмара и Луи де Буссенара, Жюля Верна и даже Эдгара По. Но разве истинный талант любого советского писателя был когда-нибудь хотя бы подсознательным следованием по проторенному до него пути, подражанием кому бы то ни было?
Талант всегда самобытен и оригинален.
И все же одна параллель, единственная параллель напрашивается сама собой.
Без малого за полвека до появления на свет сына Ивана в семье бедного либавского столяра Федорова в далеких Соединенных Штатах Америки, в семье Клеменса, родился сын Сэмюэль. Спустя много лет один из них стал белорусским советским писателем Янкой Мавром, второй — американским писателем Марком Твеном. Что общего между ними и в чем разница?
И тот, и другой ненавидели несправедливость, людское коварство, ложь, поповщину, всяческую чертовщину и религиозный дурман. И тот, и другой — детские писатели. Том Сойер, Гекльберри Финн. Для новых и новых поколений юных читателей эти простодушно-озорные твеновские герои бессмертны. А мавровские «Человек идет», «В стране райской птицы», «Амок», «Сын воды», «Полесские робинзоны» и «ТВТ»? Разве сегодняшние юные не зачитываются ими так же, как десятилетия назад зачитывались их отцы и даже деды?
Но ни гениальное простодушие, ни мальчишеское озорство Марка Твена не помешали ему создать полную горького сарказма книгу «Письма с Земли» и остросатирическую «Военную молитву», которые в нетерпимых условиях капиталистических «свобод» впервые вышли в свет лишь спустя полвека после смерти автора. «Всевышнего да не затронь!» — гласит одна из таких «свобод», и полувековое молчание непреодолимым гнетом наваливается на «крамольного» гения. А горестная исповедь Янки Мавра, его автобиографическая повесть «Путь из тьмы» пришла к читателям спустя всего лишь год после окончания работы над ней. Пришла, чтобы черным по белому подчеркнуть то, что за океаном пытались утаить в наследии Марка Твена:
«Сколько молитв было на моем веку, а бесконечное изучение закона божьего! Есть от чего возненавидеть это занятие да и самого господа в придачу!»
Нельзя равнодушно, в шутку