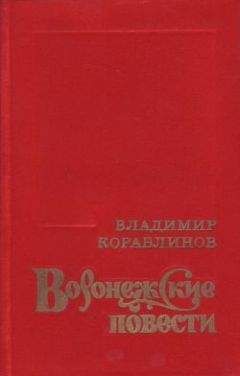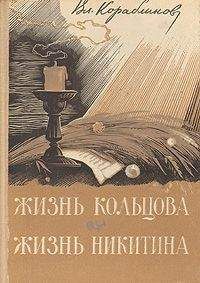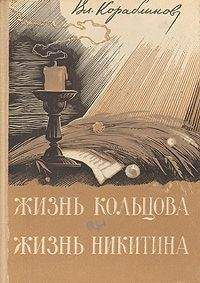Был меланхоличный, тихий, пожилой Черских (впоследствии он стал профессиональным художником), кажется, из чиновников. Впрочем, что такое понятие пожилой в глазах подростка? Я расскажу, как у меня получилось с Арсением Ридалем. Он – режиссер, музыкант, поэт, читал у нас историю театра. В облезлой шапочке, в куцем пальтишке, сшитом из шинели, в каких-то нелепых голубых обмотках и грубых солдатских («австрийских») башмаках, он казался мне если не стариком, то, во всяком случае, человеком достаточно пожилым. В начале двадцатых Ридаль уехал из Воронежа, но так на всю мою жизнь и запечатлелся в памяти: старик. И лишь недавно я узнал, что в ту пору ему было всего лишь двадцать шесть! Вот так зачисляем мы в старики, когда нам самим – тринадцать.
Стаховский был красивый, розовощекий, в буденовке и бушлате, командированный воинской частью в рисовальную школу. Богданов – железнодорожник из Отрожки, с копной непокорных волос, с мечтательным тонким лицом, влюбленный в классику настолько, что все женщины на его портретах получались похожими на Мону Лизу, а мужчины – на дюреровский автопортрет с цветком.
Затем еще Дубочкин был. Худенький, тщедушный, о незначительным кротким личиком, в одежде оперного разбойника: широченная черная шляпа, черный плащ до пят… Ах, если б еще пару пистолетов за пояс! А голосок тихий, робкий, и сам застенчив, как девица. Но что он представлял собою как художник – не помню совершенно.
На исходе зимы вдруг появился Яковлев – откуда-то из дальнего уезда, из захолустья. Неряшливый, грязный, почти неграмотный; некрасивое, изъеденное оспой лицо странно вытянутое, прислушивающееся: он был глух. Раскрыл свою папку – Бучкури так и ахнул: «Цорн! Смотрите, подлинный Цорн!» Александр Алексеич, как и его гениальный учитель, преувеличивал свои восторги, но, конечно, Яковлев и в самом деле был талантлив, родился художником.
Однако все мы являлись лишь фоном, декорацией, толпой статистов на сцене. В центре же блистали трое: Вадим Рындин, Илюша Кулешов и очаровательная, с переливчатым голосом иволги Наталья Ивановна.
Это он, Рындин, ставил холст кверху ногами, уверял, что так проверяет натуру; это Кулешов разрисовывал свое нежное, женственное лицо зелеными и синими чертиками; это Наталья Ивановна с мужской смелостью не кистью – мастихином шлепала на полотно лепешки красок и позировала избранным обнаженной…
Они держались свободно, уверенно. Громко говорили, громко, во всю глотку, смеялись. Как бы вызывали всех на спор, на драку своими манерами, выходками, суждениями и даже одеждой. Козырьки кепок – четырехугольные, длиннейшие штаны с невероятным клешем, не хуже нынешних, улично-франтовских; оголенная грудь Илюши Кулешова; блузы холщовые – колоколом, распояской; чудовищные банты и раскрашенные щеки, глаза, подведенные синё, театрально… Но все это, конечно, была игра, мальчишество, «театр для себя» (существовало такое красное словцо), дерзкое, внешнее противопоставление себя – необыкновенных, художников – прочим, обыкновенным. Это соблазняло, притягивало, побуждало подражать, и вот кто-то из подростков уже пытался к жалкой своей кепчонке пришить такой же чудовищный козырек и намалевать на серых от недоедания щеках лилового чертика… Да, наверно, и мне тогда хотелось не отстать, и я, наверно, если б не моя деревенская робость, тоже разрисовался бы. Но я лишь тайно восхищался, не решаясь подражать, и только на то отважился, что скромный свой домашней маминой вязки розовый гарусный шарфик не под кожушком стал носить, а сверху, залихватски закидывая один конец на спину. Но как хотелось быть, как они, и в художестве! Хотелось наперекор себе, собственным понятиям изобразить что-то этакое… ну, человеческое лицо, что ли, фиолетового или, скажем, зеленого цвета, да еще и перекосив его плоскими углами, как это ловко ухитрялись делать они. Однако и тут мешала, а лучше сказать, спасала застенчивость, страх показаться смешным; и я продолжал корпеть в одиночестве над гипсами, морозно-белыми Дианами, Зевесами, Аполлонами… Жил в обществе гипсовых богов и как-то уже привык к ним, не желая ничего более, словно бы хоронясь за ними, отсиживаясь за их могучими каменными телами, отгородись ими от шумной и бестолковой жизни мастерских.
Но однажды Александр Алексеич сказал:
– Это, конечно, хорошо – гипсы, полезно, но почему бы не подумать о собственной композиции? Скажем, что-то из деревенской жизни… Подумайте-ка.
Я так и вспыхнул: собственное! Но куда же мне… И открыл рот, чтобы возразить, но он уже подошел к кому-то, о чем-то говорил, и неловко было вмешиваться в разговор, прерывать его.
И вот я попробовал.
Картинка называлась «Вечер в деревне».
Она должна была изобразить нашу деревенскую горницу, бабушку с ее россказнями, всех нас, ее слушателей, вечерние синие окна, полумрак, цветные лампадки перед образами, – словом, то, что видел много раз, что ярко отпечаталось в воображении.
Но ничего этого не получилось.
Почему-то свое, виденное въяве, вдруг растаяло, затуманилось. Непрошеные, обступили образы иные, иные краски – не мои, не те, что некогда сам увидел, а чужие, в свое время поразившие меня в плохих воспроизведениях картин известных художников. Откуда-то взялись вдруг бабы малявинские, архиповские, Александр Алексеичевы даже (его вещи с выставок «Союза русских художников» довольно часто печатались в журналах). Алые кофты, алые юбки, алая божница с иконами… Дорвавшись до красок, я особенно возлюбил киноварь, кармин и все оттенки красного. И вот так, перемазав картину чужим, остался доволен: рукоделье пылало, что твоя печь. Я с гордостью, но и не без страха показал картинку Бучкуря. Тот повертел ее в своих толстых мужицких пальцах, как-то неопределенно поклокотал горлом и сказал:
– Оно бы и ничего, да только все это я, понимаете ли, уже где-то видел…
Слава богу, у меня хватило ума догадаться, что и с «собственной композицией» получилось то, что не так давно произошло с поэмой о гибели киевского князя. Однако эта последняя неудача не так потрясла меня, как та, прошлогодняя. Я легко смирился и снова засел с растушевкой за равнодушные лики античных богов.
И тут наступило лето двадцатого года, когда город Воронеж (при моем участии) оказался размалеванным с головы до ног. С ведерками клеевых красок, с огромными малярными кистями, мы – теперь уже довольно многочисленный отряд школяров-живописцев – кинулись на стены городских домов и каменных оград…
Это было время незабываемое. Юную нашу республику со всех сторон обступали враги. И хотя многие (из тех, что полгода назад страшными пьяными ордами пылили по русским большакам, убивая и грабя) – многие к весне двадцатого, разгромленные, уже были черепами, смутно желтеющими в подымающихся зеленях полей серединной России, а другие в паническом бегстве скатывались за рубеж, – все равно, их еще достаточно насчитывалось: помимо остатков потрепанных белых армий то там, то тут вспыхивали кулацкие заворошки, банды прохиндеев-головорезов грибами-поганками нарождались в русских лесах и болотах несчетно. Но едва ни не самым страшным врагом надвигался голод, ползла тифозная вошь, а при первом весеннем тепле – в душной пыли, в зное, в гудящих мушиных роях – пожаловала и страшная гостья – холера.