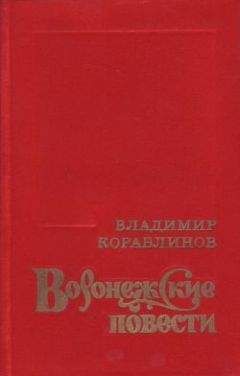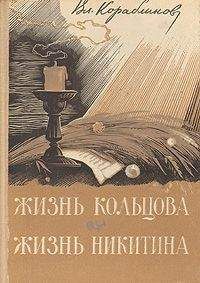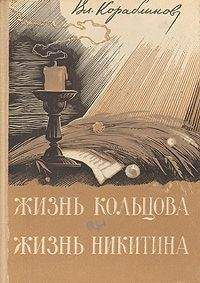А нам дали кисти, и мы ими сражались.
И вот ярчайшими цельными красками заорали стены домов, и стихи – грубоватые и бесхитростные – звали истошными голосами:
– Холерных дома не держи, скорей в больницу положи!
– Не моешь фрукты и плоды – не избежать тебе беды!
– Черному барону снится корона. Пугалом для ворон быть тебе, черный барон!
Кто были авторы этих стихов? В памяти современников долго потом звучали охрипшие от крика строчки, а сочинители их остались неизвестны.
Эти наши наскальные изображения необыкновенно живучими оказались: прошумел нэп, отсчетом мирного времени сделались пятилетки, а на белой стене бывшей Мерчанской гимназии, где разместился музей Революции, – он все летел в яростный бой, гигантский алый всадник, созданный огненной кистью Илюши Кулешова, и к вечной битве звала алая рука, к алым облакам взметнувшая алый клинок…
И лишь страшным пожарам сорок второго удалось оборвать этот гремящий, сверкающий полет.
Но вот кончились наши шумные городские походы с ведерками красок, и снова – зимняя тишина мастерской. И снова – гипсы, уже бесконечно надоевшие. И еще новая попытка создать свою композицию, и, как и в первый раз, она была не моей, списанной с чужих образцов. Пришла горькая мысль, что нет, не художником я родился.
Нет, не художником.
И разом все безразлично сделалось, ходил потерянный, скучный. Варечка сказала однажды:
– На тебе лица нет, просто ужас, как ты извелся.
Посоветовала съездить домой, подкормиться.
Я послушался, поехал. Помню, день выдался ненастный, валил мокрый снег. В вагоне было шумно, дымно. Рычала гармошка, ветер свистел в выбитых окнах. Паровоз задыхался в предсмертном крике отчаяния, колеса стучали под заплеванным полом; ужасный их грохот отдавался в голове тупой болью, и все кружилось, кружилось перед глазами…
Мне было холодно, хотелось сжаться в комок, и я сжался, скорчился, сполз со скамейки вниз, под ноги гармониста. Тут внизу как-то затишней показалось, и гармошка не так рвала уши, зато грохот колес приблизился вплотную. Да еще гармонист принялся сплевывать, и плевки его попадали на мои колени. В другое время я, конечно, почувствовал бы отвращение, закричал бы, выругался, но сейчас мне было все равно и даже – не поверите! – уютно, потому что я уже существовал в ином мире, в мире смертельной болезни.
Как я такой добрался до дому – и поныне не соображу.
Умирал в течение двух недель.
Были видения; слепые античные боги в крутых завитках волос на гипсовых головах; огонек коптилки и синее ночное окно; тиролец в шляпке с петушиным пером и розовыми коленками; голая Наталья Ивановна, вся в косяках, как лоскутное одеяло или штаны Арлекина; толстые пальцы Бучкури, стопудовым грузом легшие на грудь…
В дальнейшем тиролец являлся мне при всякой болезни, стоило термометру заползти за тридцать девять.
Но я не умер. Поправлялся медленно, с великим трудом всю зиму, пока не зашлепала за окном весенняя капель и не засвистели любимые мои веселые Иванки.
В Воронеже я появился в мае.
Ярким солнечным утром тихонько приоткрыл дверь мастерской и не узнал привычного класса. Какое многолюдство! Больше половины сидящих за мольбертами было незнакомо. На подмостках, покрытых рукодельным «монастырским» ковром с алыми розанами, лежала молочно-белая толстуха, на которой ничего не было, – одни золотые туфельки.
Оторопело стоял в дверях, не знал, что делать: я никогда не видел обнаженной женщины, у меня в висках застучало. Бучкури ходил между мольбертами, поправлял.
– А-а! – заметил меня, заметил мое смущение. – Входите, что же вы…
Но я продолжал стоять столбом, с ослабевшими враз ногами. Тогда он сам подошел ко мне.
– Вы что – болели? – спросил участливо. – Ах, да… Какое глупое недоразумение! Вы знаете, – он усмехнулся неловко, – был слух, что… Словом, вас вычеркнули из списка учащихся. Но это ничего, это легко поправить… Входите же, усаживайтесь, у нас нынче прекрасная натура…
Он, как отец родной, хлопотал возле меня.
– Нет, нет! – поспешно пробормотал я, совсем уж смутясь до того, что и слова выговаривал невнятно, немо. – Нет, не сейчас, я потом приду… до свидания!
И ушел, оглохший, с одеревеневшей головой. «Вычеркнут… Ну, значит, так тому и быть… И очень хорошо, и отлично!»
Все решилось необыкновенно просто и легко.
Так мне казалось тогда. И даже сыпняк вообразился как некая опасная, но необходимая черта, перешагнув которую я навсегда расставался с фантастической, выдуманной жизнью, то есть с мечтаньями о будущности художника, и вступал в новый мир – разумный и действительно существующий.
«Разумный»… Ах, мальчишка!
И опять-таки не кто-нибудь, а Варечка вводила меня в этот новый мир, как некогда в роскошный кабинет «академика». В своем наробразе она услышала, что осенью открывается Кооперативное училище, которое предполагает готовить бухгалтеров, экономистов и товароведов. Училище выглядело солидно, преподаватели отличные, иные даже из нового, переведенного к нам Дерптского университета.
Родители, разумеется, пришли в восторг: «Пора, пора Володьке за дело приняться!» В августе я кое-как сдал экзамены, и понесло меня по безбрежному морю общих в специальных наук.
На художничестве был поставлен крест.
Как о гимназической поре, так и о кооперативно-училищной сказать нечего, кроме одного: скука. Но там хоть гимназист Фришман существовал с его картинками, соблазнившими меня, а тут…
Ничего в памяти не зарубилось, пожалуй, кроме смешного учителя по литературе.
Главное же заключалось в том, что жизнь моя в те дни устроилась на колесах: в городе голодно, не прохарчиться, а дома – хоть картошка, хоть хлеб лебедовый. Приходилось ежедневно ездить в училище.
И вот – потемки ранних утр и вечеров. Дорога от села, с версту, до углянской площадки, где поезд останавливается на минуту; полтора часа в холодном, темном вагоне; рассвет над Терновой Поляной, над которой по высокой насыпи несется поезд; разбойничий рев паровоза у семафора и – город. Часовня на вокзальной площади, десятка два извозчиков, орущие галки, снежок; листы газет, расклеенные на афишных тумбах, на заборах, на стенах домов…
Об этих стенах надо сказать особо.
На них – жизнеописание города последних лет. Она исковыряны пулями (бои с анархистами в восемнадцатом, с мамонтовцами – в девятнадцатом); они черны от дыма печек-буржуек, железные трубы которых высовываются из форточек, как страшные руки узников, взывающих о помощи… Они – в ярчайших подтеках красок наскальной живописи (следы прошлогоднего нашего противохолерного живописного буйства). На них – листки приказов комендантских, военкоматских: тогда-то являться, после стольких-то не ходить по улицам. На них – лохмотья афиш печатных и рукописных, среди которых каким-то непонятным образом в двадцать первом еще уцелели, выцветшие и оборванные, прилепленные и год, и два тому назад: поэзоконцерт Игоря Северянина, песенки Виктора Хенкина, лекция «Христос и Антихрист». Стены митинговали, призывали, приказывали, упрашивали добром, а то и грозили.