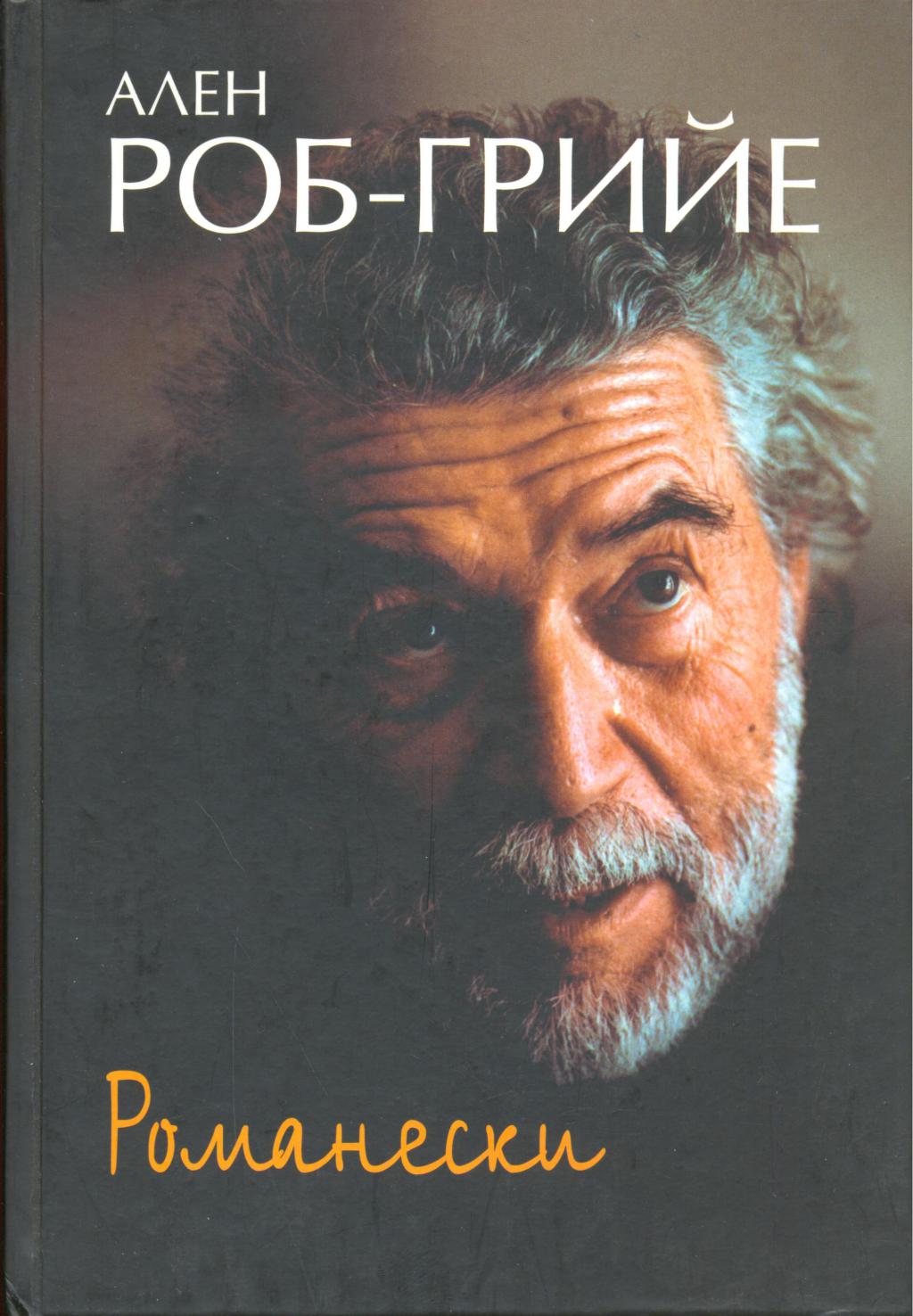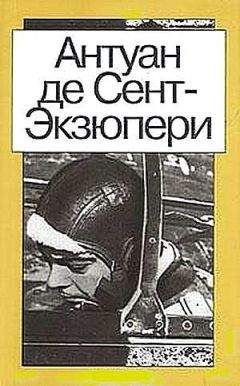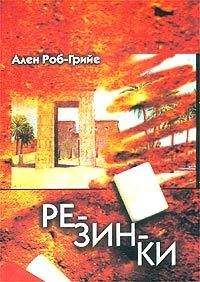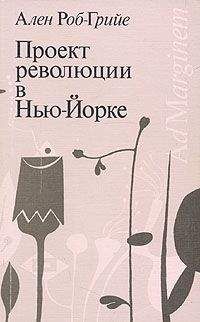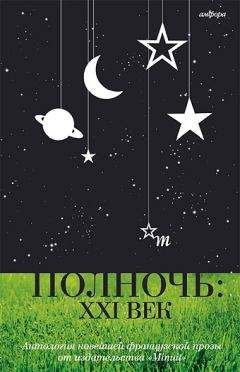где море и страх, в свою очередь, станут простыми текстовыми
операторами; и не только в том или ином цитированном произведении, чью тематику и структуру текстуальные объекты отметят своим присутствием, но также в этом самом эссе, которое по указанной причине я только что нарек фантазией.
Итак, я говорил о страхе. Он должен был сыграть важную роль в моих редких подростковых приступах книгочтения. Моя сестра (читавшая страшно много) и я (перечитывавший одни и те же книги) весьма рано впитали в себя английскую литературу. Я часто упоминал о Льюисе Кэрролле как об одном из главных спутников моей юности; реже говорил о Редьярде Киплинге, из книг которого самыми дорогими для меня были не «Ким» или «Книги джунглей», а «Сказки Индии», в особенности те, в которых страшные привидения наводят ужас на солдат. Я не заглядывал в них лет тридцать-сорок, но, несомненно, хоть сейчас мог бы пересказать историю заблудившегося в ночи легиона, который встретил другой британский разъезд, когда-то попавший в засаду и погибший; я, как наяву, слышу стук копыт сотни мертвых всадников, едущих по склону горы, натыкаясь на собственные надгробия; а также историю полковника Гэдсби, который ехал верхом во главе полка и постоянно выпадал из седла под ноги тысячи лошадей собственных драгун, скачущих галопом следом за ним; или об офицере, которого преследует рикша-призрак: на сиденье рыдает брошенная офицером любовница, в отчаянии покончившая с собой; или о человеке, который при температуре 42° в тени подкладывал себе в постель остро отточенные шпоры, чтобы отогнать от себя страшные видения — так ни разу и не описанные, — их жертвой он становился, едва засыпал, и они в конце концов его сгубили.
Я вырос в общении с призраками. Они были составной частью моей повседневной жизни, смешиваясь с бретонскими преданиями и легендами о привидениях, которые по вечерам рассказывала нам «крестная» (тетка матери), заменяя ими колыбельные песни. Это были истории о погибших в море матросах, появляющихся, чтобы утянуть с собой за ноги живых, о катафалке «анку», скрип и громыхание которого возвещают скорую смерть ночному гуляке, заблудшему в путанице дорог, казалось бы знакомых; о заколдованных местах; о приметах и знамениях, не говоря уже о несметных грешных душах, стонущих на пустошах и болотах или стучащих ставнями при полном отсутствии ветра и до рассвета взбалтывающих воду в тазах с намоченным бельем.
По ходу лет и рассказов наше семейство неуклонно разрасталось, принимая в свое лоно с обычной естественностью новых персонажей, начиная с бледнолицей невесты графа де Коринта и кончая проклятым голландцем, стоящим на мостике безлюдного корабля, который, поставив все свои алые паруса, исчезает в ночи, бороздя фосфоресцирующие волны. Так снова появляется океан. О Смерть, старый капитан! Пора поднимать якоря…
Вот юный граф Анри, борющийся с приливом, сидя на белом коне, чья блестящая грива как бы перемешана с пеной, сорванной штормом с гребня волны. Вот раненый и бредящий Тристан тщетно высматривает корабль, на котором в Леонуа плывет белокурая Изольда. А вот Каролина Саксонская, чье безжизненное тело, окутанное золотистыми водорослями, уносят в неведомую даль сменяющие друг друга волны.
Герои романов и фильмов тоже представляют собой некий род фантомов: их можно видеть, слышать, но не пощупать; рука, протянутая для того, чтобы их потрогать, неизменно проваливается в пустоту. Они ведут такое же сомнительное, но вечное существование, как те, не знающие покоя, мертвецы, которых то ли злое колдовство, то ли божественное мщение принуждает вновь и вновь переживать одни и те же сцены их трагической судьбы. Так, Матиас из «Соглядатая», — его, на плохо смазанном велосипеде, я часто встречал на тропинках по-над обрывом, среди зарослей низкого кустарника, — всего лишь неприкаянная душа, точно такая же, как отсутствующий супруг из «Ревности», или персонажи, столь очевидные выходцы из мира теней, населяющие «Мариенбад», «Бессмертную» и «Человека, который лжет». Как бы там ни было, вот одно из самых правдоподобных «объяснений» их «натуральности», их вида существ, нигде не присутствующих, ненужных в этом мире, а также настойчивых преследований неведомо чего, отказаться от которых они явно не могут, как если бы отчаянно пытались обрести плотское существование, вступить в достоверный мир, открыть дверь которого им не дано; или же как если бы они пытались вовлечь в свои тщетные поиски любого другого, всех других, включая ни в чем не повинного читателя. Стивен Дедалус, землемер К., Ставрогин или Карамазовы жили точно так же. Все эти блуждания в лабиринте, эти топтания на месте, эти повторяющиеся сцены (даже сцена смерти, которая уже никогда не завершится), эти нетленные тела, это безвременье, эти многочисленные параллельные пространства со внезапными срывами в сторону, наконец, эта тема «двойника» — ею продовольствовался целый сектор нашей литературы, и она создала как «Человека, который лжет», так и «Эдем и после» или «Золотой Треугольник», — является ли все это отличительными признаками и естественными законами вечных заколдованных мест?
С Анри де Коринтом я знаком не был. Быть может, мне даже ни разу не довелось оказаться рядом с ним, хотя такую возможность я допускаю, тем более что отец мне довольно часто рассказывал о его визитах в Черный Дом, куда граф время от времени по-соседски заглядывал, прежде чем попрощаться на ночь.
Тогда я полагал, что старое жилище, где я родился, получило свое название от очень темного гранита, из которого был построен его фасад, гранита столь крепкого и гладкого, что века не оставили на его высокой вертикальной стене ни мха, ни лишайника, разве что в пустотах между тщательно пригнанными друг к другу прямоугольными блоками. Когда зимняя изморось смачивала их поверхность, они сверкали блеском каменного угля между серыми ветвями буков, на которых там и здесь еще держались рыжие жесткие листья, неподвижно-мертвые под нескончаемым моросящим дождем.
Де Коринт приходил по широкой прямолинейной аллее из двух двойных рядов, ровных, как колонны подземных цистерн Константинополя, стволов, чье гравированное изображение, висевшее в изголовье кровати, украшало мою комнату. Его лошадь неслышно ступала по размокшей земле, исполняя некий бесшумный танец, как если бы переполненное водою пространство сделало ее невесомой.
Этот человек, как говорил отец, будь он пешим или сидящим на белом коне, всегда появлялся, не возвещая о своем приближении ни стуком каблука, ни подошвы, ни подковы, словно его тяжелые сапоги и копыта животного были подбиты толстым слоем войлока; если, конечно, они оба имели волшебную способность передвигаться, не касаясь земли, в нескольких миллиметрах над дорогой, над ступенями крыльца из черного камня или над выложенным квадратами полом обширной темной залы,