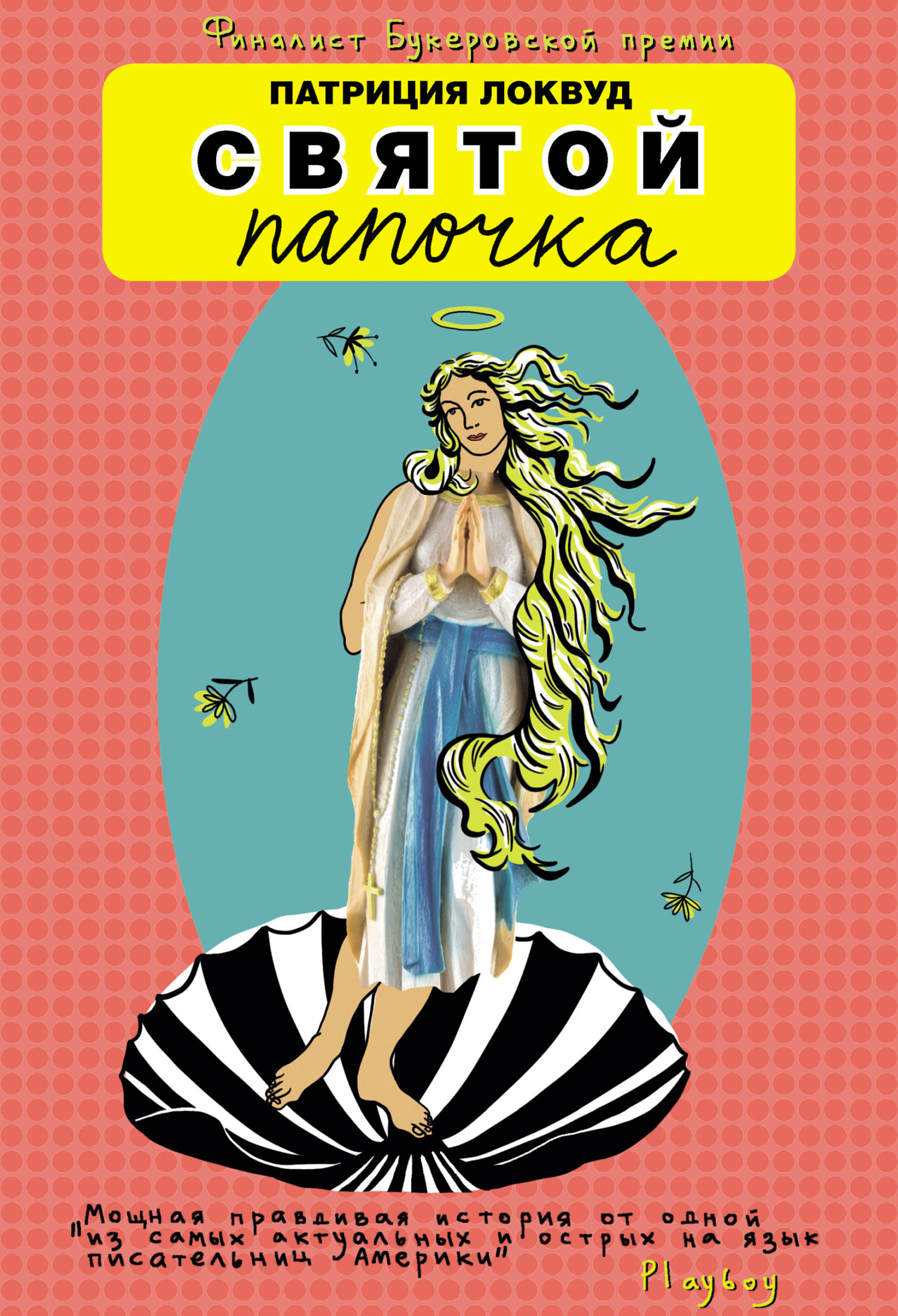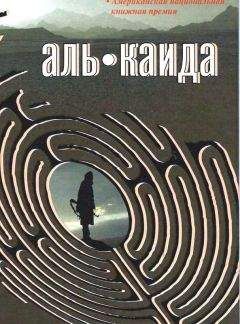вглядывалась в рисунок «глазков» на картошке, да и просто действовала Папе Римскому на нервы. О прабабке-модели вспоминали с таким же неодобрением, как будто они были неким образом связаны даже сквозь века – пока одна помешивала в своем ведьмином котле, другая в замедленной съемке скакала по ромашковому полю. Так что никто особо не удивился, когда из матушки выбралась я – крошка-экстрасенс с сиськами до пупа.
– Сразу видно – старая душа, – сказала акушерка, но все узрели истину, скрытую в этом тактичном эвфемизме: я была лукавым извращением природы, чудовищным гибридом пекла и небес. Мое рождение сопровождал сладострастный аромат адской серы. Не успела я на свет родиться, как тут же показала доктору непристойный жест, которого и знать тогда не знала, и видеть нигде не могла.
– Моя копия, – заметил отец.
Мои родители единодушно назвали меня в честь монахини, видно надеясь изменить ход моей судьбы, но пути назад уже не было, и они об этом знали. Акушерка запечатлела мою суть на бумаге и заклеймила официальной печатью.
Тогда мы жили в трейлере. Отец все глубже и глубже погружался в свои книги, и оставался там до тех пор, пока не решил, что уже готов к рукоположению. Он нацепил белый воротничок, который моя матушка теперь обязана была содержать в чистоте до конца их брака, и мы переехали из трейлера в приходской дом, который церковь выдавала священнику. Если у меня и сохранились какие-то воспоминания об этом времени – то это стены замка, шоколадно-коричневые скамьи и плещущиеся на большой высоте яркие полотна. Есть у лютеран какая-то страсть к знаменам, граничащая с эротическим помешательством. Нет никого счастливее, чем лютеранин, вырезающий здоровенные виноградины из фиолетового войлока и клеящий их к войлоку другого цвета. Еще я помню некоторых прихожан – квадратнолицых, голубоглазых, мягко лоснящихся после съеденного пирога с начинкой. Еще помню, как сама поглощала неимоверное количество разнообразных салатов с майонезом, которые особенно любили и прекрасно готовили лютеране. Если бы среди них вдруг явился Иисус и сказал: «Ешьте плоть мою», они бы точно сперва хорошенько вымазали эту плоть майонезом.
Именно на этом пасторально-богобоязненном фоне во мне и проклюнулись первые зерна богохульства. Однажды во время похорон, которые проходили в этой торжественной, увешанной знаменами церкви, я повернулась к маме и громко поинтересовалась:
– МАМУЛЯ, А ГДЕ ТВОИ СОСКИ?
Она быстро закрыла мне рот ладонью и вынесла под громкое лютеранское «Ах!» Не понимаю, правда, почему. Им, значит, можно было жаждать узреть незримое, а мне почему-то нет, хотя мой интерес был не менее законным, чем их. И это был не последний раз, когда я пыталась отыскать в церкви мамины соски, но в последний – когда я объявила это во всеуслышание.
Все они были очень домашними людьми, но мой отец почему-то не чувствовал себя среди них как дома. Проповеди, который он читал, все больше и больше отдалялись от идеалов Мартина Лютера и стремились к чему-то другому, но только моей матушке было ведомо – к чему именно. Она знала, что мой отец постепенно становился католиком. Что он устал от виноградного сока и ему хотелось вина.
Устроено все следующим образом: когда женатый священник другой веры переходит в католицизм, он может обратиться в Рим за разрешением стать женатым католическим священником. И тогда – да, ему будет позволено сохранить жену. И даже детей, какими бы гадкими они ни были. Ватикан должен пересмотреть его дело и провозгласить такого священника годным к службе (дело моего отца одобрил Джозеф Ратцингер, позже взявший имя Папы Бенедикта XVI, а еще позже отрекшийся от папства и ставший загадкой в эльфийских туфлях, бродящей по частным садам среди розовых кустов, с глазами, похожими на два черных немигающих бутона). Получив это одобрение, человек мог начать готовиться к священнослужительству и получить посвящение, но только после того, как каждый член его семьи пройдет психиатрическую экспертизу и сдаст тест.
На посвящении в сан он лежал плашмя на полу, и я на мгновение забеспокоилась, что его сейчас начнут пинать и, может быть, даже ногами. Церемония длилась ровно столько, сколько и было обещано: целую вечность. На мне было мое самое противное и колючее платье цвета непогоды, и я всю церемонию ерзала на стуле, что чуть позже обрело некий особый смысл. Рядом со мной сидела мама, и я поняла, что именно она была тем, что отличало его от всех прочих священников. И я тоже. Когда все закончилось, все стали называть его отцом, но я и раньше его так называла, так что для меня ничего особо и не изменилось. Все отцы верят, что они – Боги, и я считала само собой разумеющимся, что мой отец верил в это как-то особенно сильно.
В его голосе всегда звучала некая торжественная каменность, словно он только что спустился с горы со скрижалями в руках, и неважно, что он говорил: «СРАНЬ», «НЕ-Е» ИЛИ «С РОЖДЕСТВОМ, ТУДЫТЬ ЕГО РАСТУДЫТЬ».
Эту особенность унаследовала и я, за что очень ему благодарна.
Голова отца высовывается из дверного проема и напоминает мне планету, лежащую к Солнцу ближе, чем наша. Под мышкой у него толстенный талмуд, посвященный фальшивым Папам – судя по его размерам, их, наверное, было немало. Стекла наших с ним очков бликуют с родственной близорукостью, и я смотрю на отца со сложной нежностью во взгляде. Помню, как он прочитал мне проповедь под названием «Блудная дочь», когда я впервые сбежала с Джейсоном лет в девятнадцать. Чуть позже я вернулась к ним с коротким визитом и пела в церковном хоре со старшей сестрой в боковом алькове церкви, рядом со старым хрипящим органом, в окружении церковных свечей. Я слушала его, опустив голову, и хорошо запомнила узор на полу в церкви. В его версии я была никудышным сыном свинопаса, который сбегает из дома, но все равно с жалобным хрюканьем приползает обратно, растранжирив последние деньги. Тогда я не знала, как реагировать на его слова, стыдиться или потешаться, теперь же понимаю, что они оказались пророческими. Все эти годы я почесывала пузико своим внутренним свинкам либерализма, агностицизма, поэзии, блуда, сквернословия, чревоугодия и желания посетить Европу, но вот я снова дома, и сюда всем этим свинкам дорога заказана.
Отец приветствует нас с привычным великодушием, походя поносит президента, выражает уверенность, что «Цинциннати Бенгалс» «зададут всем трепку» в этом сезоне, выкрикивает «Кий-я!» безо всякой причины, напоминает маме перестирать тонну его нижнего белья, а затем снова исчезает на кухне и принимается жарить