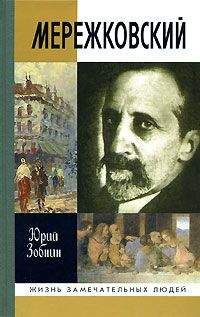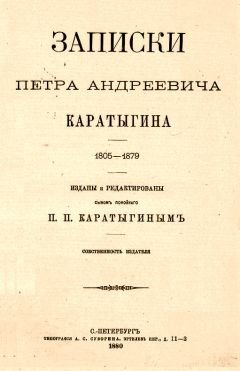Дальнейшая судьба Константина Сергеевича весьма своеобразна. Он достиг известных успехов на биологическом поприще, однако его народническо-социалистические убеждения трансформировались в проповедь свободы нравов в духе откровенной эротомании. Он написал и опубликовал футурологическую повесть «Рай земной, или Сон в зимнюю ночь. Сказка-утопия XXVII века» (Берлин, 1903), в которой грядущий «золотой век» оказывается, по мнению автора, эрой евгенического отбора, абсолютного сексуального освобождения и торжества чувственно-звериного начала в человечестве. Этот скандальный текст некоторые консервативные критики приписывали позже Дмитрию Сергеевичу как яркое доказательство «ницшеанского и упаднического» характера его творчества.[2]
В конце концов, Константин оказался замешанным в каком-то темном деле, связанном с растлением несовершеннолетних, вынужден был покинуть столицу и перебраться в дальнюю провинцию. После революции он, как и младший брат, эмигрировал; в 1921 году он покончил с собой в Швейцарии.
Этот странный, изломанный человек, в котором так болезненно выразилось все духовное неблагополучие научной и творческой русской интеллигенции второй половины XIX века, в конце семидесятых годов на некоторое время становится для младшего брата-гимназиста, как позднее выразился Мережковский, чем-то вроде «мудрого змия-искусителя» при «Адаме в райской сени»:
Он все, во что я верил, разрушал…
Дмитрий тайком приходил к брату в университетскую лабораторию в здание «Двенадцати коллегий». Там при инфернальном голубоватом свете спиртовки, накаляющей шипящую колбу с опаловой дымящейся жидкостью, под сухой треск гальванической машины братья вели долгие страшные «карамазовские» разговоры. Константин, «волей тверд в добре и зле без удержу, без меры», «смеялся над чертом и над Богом», разворачивал перед «дрожащим» от чудовищных кощунств младшим братом жуткие теории социального дарвинизма и демонстрировал ему под микроскопом инфузорий, пожирающих друг друга, что, очевидно, было наглядной иллюстрацией к сказанному:
И любопытство жадное влекло
К опасности на крайние ступени,
И в первый раз на детское чело
Уже недетских дум ложились тени:
Пленяет душу человека зло.
Впечатляющий и весьма важный для понимания юношеских исканий Мережковского биографический «сюжет»! Он дополнялся еще и тем, что Сергей Иванович после скандала вокруг истории с оправданием Засулич решил препоручить дело спасения старшего сына некоему «ученому попу», занимающемуся миссионерством (зная связи Сергея Ивановича, легко предположить, что это был кто-то из лучших православных мыслителей того времени). Священник, оказавшийся знатоком новейших естественно-научных теорий и палеонтологии, был к тому же на редкость мягким и деликатным человеком. Он навещал Мережковских по субботам: «в лиловой рясе с золотым крестом» уютно располагался в гостиной, неспешно угощался чаем с баранками и между прочим в спокойной, дружеской застольной беседе, столь отличной от скандальных инвектив Сергея Ивановича, искусно опровергал дарвинистские постулаты Константина, толковал книги Моисея и доказывал наличие Провидения. Мережковский непременно присутствовал при этих «миссионерских чаепитиях»:
И спорам их о Боге без конца
Я с жадностью внимал, дохнуть не смея…
Если для старшего брата усилия священника, по-видимому, остались втуне, то младший, напротив, оценил встречу с «умным миссионером» как «маленькое чудо», сотворенное Богом лично для него по его молитвам как раз в тот момент, когда его слабый детский ум «изнемог в борьбе с мятежнымдухом, дьяволом науки». По крайней мере, рано испытав в беседах с братом обаяние безбожия, юный Мережковский столь же рано узнал и то, что его старший современник, великий русский мыслитель Константин Леонтьев называл «мрачно-веселым обаянием Православия, глубокого для ума, простого для сердца».[3]
Александр, в отличие от Константина, играл в отношениях с младшим братом роль конфидента-собеседника. Это был мечтательный юноша, неуклюжий и молчаливый, целиком погруженный в свои фантазии, презирающий «тьмы низких истин» повседневности настолько, что по завершении гимназии всерьез собирался затвориться в монастыре. В отличие от других братьев и сестер Александр, видимо, был душевно открыт и весьма расположен к откровениям юного Мережковского. Во всяком случае, последний с теплотой вспоминал их разъезды на лодке по Средней Невке вдоль берегов Елагина острова, беседы «обо всем», когда «казался купол неба над водой лазурной опрокинутою чашей». Судя по всему, будущий поэт испытывал простое счастье, забывая как гимназические грамматики, так и прежние «теологические кошмары», навеянные беседами с Константином.
Однако вдруг возникшей дружбе не суждено было окрепнуть: романтик Александр по мере «воспитания чувств» пережил метаморфозу убеждений и монастырскому уединению предпочел должность чиновника особых поручений. Он уехал из Петербурга и перестал общаться с братом-писателем. Как подытожил Мережковский:
Немало в жизни всяких превращений!
Некоторое время после смерти матери Дмитрий поддерживал отношения с другим братом, Сергеем (они были погодки, учились в одном классе, но в гимназии недолюбливали друг друга, ибо Сергей был «насмешлив и хитер»), работавшим микробиологом в Медицинской академии; тот был дружен с сестрами Гиппиус и несколько раз летом гостил у Дмитрия Сергеевича и его жены на даче. Эта связь прекратилась сама собой, так что даже телеграмму о смерти отца в 1908 году дал Мережковскому не Сергей, которого не было при покойнике, а свояченицы.
Прочие родственники (братья Николай и Владимир, сестры Надежда, Елизавета и Вера) абсолютно незаметны в жизни Мережковского. Это большое и на первый взгляд столь благополучное семейство оказалось колоссом на глиняных ногах. Как только мать, жизнь положившая за сохранение мира в семье, тихо уснула смертным сном в квартире на Знаменской улице, служившей прибежищем для остатков семьи с 1881 года (после отставки Сергея Ивановича, изгнания Константина, замужества Надежды и отъезда Александра и Владимира из Петербурга), все узы, связывающие отца и детей, в одночасье истлели. В безнадежном мраке истории человеческих семейств от этой семьи осталась лишь печальным напоминанием странная привычка младшего брата к месту и не к месту повторять в своих статьях и романах скорбные слова Христа: «Враги человеку домашние его».
* * *
Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 (14) августа 1865 года в Петербурге, в одном из флигелей Елагина дворца, где семейство Сергея Ивановича традиционно проводило летние месяцы. Он был поздним ребенком (младше в семье была только сестра Вера), и, как это часто бывает, симпатии родителей и старших детей по отношению к нему оказались обратно пропорциональны: первые явно благоволили к «младшенькому», вторые – особенно не жаловали. Впрочем, как мы уже знаем, и приязнь, и неприязнь в клане Мережковских воплощались в весьма своеобразные формы. К тому же и характер у маленького Мити оказался нелегким. Это был крайне возбудимый и впечатлительный мальчик, очень болезненный и хрупкий; здесь, очевидно, сказывалось материнское начало. Внешне же Митя пошел в отца – невысокий, хотя и изящно сложенный, с неправильными чертами всегда очень бледного лица, характерными скулами, как бы «всасывающими» щеки (с годами эта фамильная схожесть становилась все заметнее).