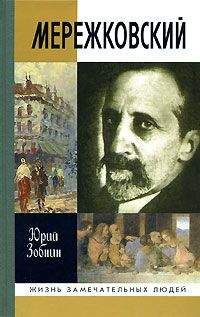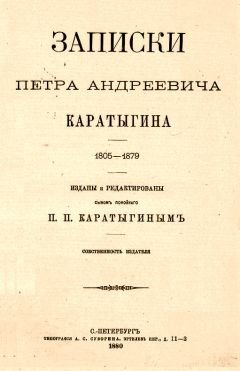Первые годы учения в 3-й Петербургской классической гимназии мало что изменили в характере юного Мережковского – он так же дичился одноклассников, как ранее – братьев и сестер, у него не было привязанности к наставникам (за исключением, возможно, учителя латыни Кесслера, поразившего воспитанника фанатической преданностью латинской грамматике, так что «неправильная форма падежа ему казалась личным оскорбленьем»). В младших классах гимназии Мережковский – примерный ученик, внешне очень спокойный и деловитый, дисциплинированный и работоспособный, к вящей радости Сергея Ивановича. Жизнь его однообразна: утром и днем – гимназические классы (гимназия располагалась недалеко от дома Мережковских, на Гагаринской улице), затем – одинокая прогулка и вечера напролет за учебниками. Никаких шалостей с одноклассниками, никаких провинностей. Единственный проступок – конфликт с учителем алгебры Поповым из-за расстегнутых пуговиц на мундире (за это Мережковскому пришлось отсидеть несколько часов в гимназическом карцере, чем он был несказанно горд, тут же вообразив себя подвижником первых веков христианства, брошенным язычниками в темницу).
Между тем в застенчивом, молчаливом и тихом подростке шла исключительно интенсивная внутренняя духовная работа.
Именно на этот период приходятся те самые «искусительные беседы» с Константином, о которых рассказывалось выше. К «теоретическим» колебаниям прибавилось и неожиданное сугубо личное переживание: гимназический священник, готовя класс к принятию Святых Тайн, рассказал воспитанникам назидательную притчу о нераскаянном грешнике, недостойно вкусившем от Причастия: язык кощунника, сожженный Христовыми Тайнами, обратился в змеиное жало. Слушая священника, мальчик вдруг вспомнил свои собственные сомнения, рожденные размышлениями над словами брата (и, вероятно, еще более усугубленные зрелищем пресловутых инфузорий-каннибалов). Несколько дней перед причащением он, по его собственному признанию, «ждал беды», веря, что его «накажет Бог», ибо при всех его усилиях он никак не мог отвязаться от этих воспоминаний, а следовательно, пребывал нераскаянным. Однако все «вышло просто, без чудес», и это, как ни странно, еще более поразило юного мыслителя – поразило настолько, что он похудел, как будто бы в болезни, стал плохо спать и есть и, отказавшись идти на пасхальные гуляния, бесцельно слонялся по комнатам, вызывая своим видом беспокойство родителей.
Рождалась в сердце вещая тревога.
И бес меня смущал…
Поразительно, что во всей истории ранних отроческих «сомнений» будущего апологета «нового религиозного сознания» содержится не только удивительно глубокое для ребенка личное переживание метафизического содержания таинства, но и то, что исходом этих «сомнений» стало не разочарование в религиозных чувствах, не утрата веры, как это часто бывает при переходе от наивного, младенческого мировосприятия в мир взрослых прагматических ценностей, а мощный импульс к новым исканиям, порожденный осознанным противоречием между незыблемым сердечным убеждением в бытии Божием и рассудочным скепсисом, внушаемым «демоном науки». Большинство сверстников Мережковского в ту пору с легкостью уступали в подобной ситуации логичным и внешне неотразимым доводам рассудка, доводам популярных материалистических учений.
Уместно вспомнить, что «общим местом» в истории русской интеллигенции XIX века стало утверждение онтологического неблагополучия ее духовного мира. Биография любого сколь-нибудь выдающегося ее представителя (тем более – представителя литературного «цеха») как-то сейчас и непредставима без рассказа о «духовном пути», «духовных исканиях», где главнейшим является решение для себя и по совести вопроса о том, есть Бог или нет. Даже Достоевский, уже прошедший каторгу, где он, по его словам, «себя понял, народ понял и Христа понял», признавался в письме Н. Д. Фонвизиной: «Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, дитя неверия и сомнений до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных».
Мережковский среди своих старших и младших современников – чуть ли не единственное исключение, ни о каких «духовных исканиях», порождаемых сомнением в основе основ личного исповедания веры, у него и речи не было. Гораздо позже, критикуя слишком рассудочную и «ученую» мистику Вячеслава Иванова, Мережковский обмолвится о личном опыте переживания присутствия Бога в мире: «Это или совсем легко – «младенцам открыто», – или невозможно понять, так же, как не трудно, а невозможно слепому видеть».
Для самого Мережковского «это» – было «совсем легко».
«Иногда взбираешься по скучной петербургской лестнице куда-нибудь на пятый этаж, – рассказывает он о природе собственных „эпифаний“,[4] – чувствуешь себя раздраженным уродливыми и глупыми житейскими мелочами. И вдруг на повороте из приотворенных дверей чужой квартиры донесутся звуки фортепиано. И Бог знает, почему именно в это мгновение, как никогда прежде, волны музыки сразу охватят душу. Все кругом озаряется как будто сильным и неожиданным светом, и понимаешь, что никаких, в сущности, огорчений, никаких житейских забот нет, а есть в мире одно только важное и необходимое – то, о чем случайно напомнили эти волны музыки, то, что во всякое мгновенье может так легко и неожиданно освободить человеческое сердце от бремени жизни».
Вообще натура Мережковского являет странное сочетание бурной и часто хаотической динамики того, что называется «душевным», – и незыблемого покоя «духовного основания», как будто бы в высокой глубине небосвода вокруг недвижно сияющей Полярной звезды обращаются разнообразные созвездия. В Мережковском как бы «от рождения», изначально, присутствует не зависящее от чувственного и рационального опыта твердое духовное знание, сообщающее о мироустроении истину абсолютно позитивного характера, – истину о том, что Бог есть.
К его ранним гимназическим годам относятся и первые самостоятельные литературные опыты, столь восхитившие Сергея Ивановича. Конечно, такая реакция отца была обусловлена скорее родственной симпатией к автору, нежели художественными достоинствами самих текстов. По собственному признанию Мережковского, его первые стихи вполне соответствовали типу юношеских подражаний, интересных, правда, как яркие свидетельства увлечения творчеством Пушкина, его «южными» романтическими поэмами: