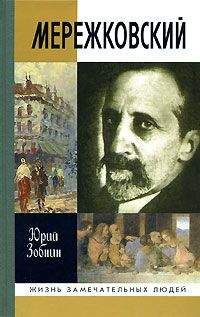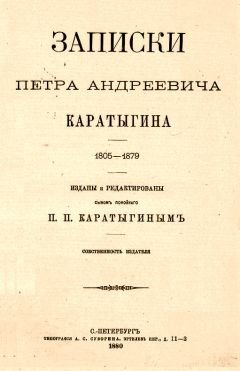Дмитрий Сергеевич Мережковский родился 2 (14) августа 1865 года в Петербурге, в одном из флигелей Елагина дворца, где семейство Сергея Ивановича традиционно проводило летние месяцы. Он был поздним ребенком (младше в семье была только сестра Вера), и, как это часто бывает, симпатии родителей и старших детей по отношению к нему оказались обратно пропорциональны: первые явно благоволили к «младшенькому», вторые – особенно не жаловали. Впрочем, как мы уже знаем, и приязнь, и неприязнь в клане Мережковских воплощались в весьма своеобразные формы. К тому же и характер у маленького Мити оказался нелегким. Это был крайне возбудимый и впечатлительный мальчик, очень болезненный и хрупкий; здесь, очевидно, сказывалось материнское начало. Внешне же Митя пошел в отца – невысокий, хотя и изящно сложенный, с неправильными чертами всегда очень бледного лица, характерными скулами, как бы «всасывающими» щеки (с годами эта фамильная схожесть становилась все заметнее).
Ребенок с самых первых лет пугал домашних необъяснимыми приступами панического страха – внезапно «белел как мертвец», замечая около себя нечто, и кричал, тыча пальчиком в углы, так что приходилось дежурить возле его постели и ярко освещать спальню лампами. Родители были крайне обеспокоены: мать пыталась унимать его сластями, отец, хоть и усмехался презрительно, глядя на расстроенную жену, тоже проводил все эти беспокойные ночи напролет в детской, пытаясь успокоить сына по-своему – издеваясь над его страхами и высмеивая их. Неизвестно, какая из родительских методик подействовала, но кошмары оставили Митю.
Маленький мальчик был очень религиозен, причем его религиозность сопровождалась какой-то неподдельной и явно не детской мистической экзальтацией. Тому немало способствовала нанятая няня – «почтенная старушка», любившая рассказывать своему питомцу сюжеты Четьих миней:
Мне жития угодников святых
Рассказывала няня, как с бесами
Они боролись в пустынях глухих.
Как некое заклятие трикраты
Монах над черным камнем произнес
И в воздухе рассыпался проклятый,
Подобно стае воронов, утес:
Я слушал няню, трепетом объятый
И любопытством, полный чудных грез,
От ужаса я «Отче наш» в кроватке
Твердил всю ночь в мерцании лампадки.
Мережковский был замкнутым и нелюдимым ребенком, «угрюмым, как волчонок», во время визитов посторонних постоянно прятался по углам, дичился не только гостей, но и братьев. У него был собственный мир, в который претворяла «скучную казенную квартиру» его яркая фантазия, – мир сказочный, чарующе прекрасный и опять-таки пугающе страшный своей таинственностью:
…Чудилась мне тайна в нишах темных,
В двух гипсовых амурах, в зеркалах,
В чуланах низких, в комнатах огромных, —
Все навевало непонятный страх…
Он очень рано научился читать, и границы мира, созданного его фантазией, вдруг неимоверно расширились. Первым чтением, поразившим его настолько, что потом он был верен этой детской привязанности до конца дней, были сказки «Тысячи и одной ночи». Тогда, в детские годы, вырабатывалась единственная форма «непростительной праздности», от которой он, вечный труженик, не понимавший, что значит слово «отдых», никогда не мог отказаться: вечером стащить на кухне горсть конфет, засахаренных орешков и чашку горячего шоколада, залезть в глубокое кресло, зажечь лампу с обязательным зеленым абажуром, взять заветный истрепанный том – и часа два-три провести в компании «султанов, евнухов и жен Шахерезады».
К арабским сказкам позднее добавились романы Даниэля Дефо, Фенимора Купера, Жюля Верна и Густава Эмара.
Он был, в полном смысле этого выражения, «книжным мальчиком». Одиночество с книгой – его естественное состояние еще задолго до гимназических лет, когда, не имея товарищей (и не желая заводить знакомства), он целиком и полностью погрузится в мир литературы. Это было обусловлено еще и тем, что раннее его детство проходило без общения со сверстниками: у старших братьев и сестер (за исключением Сергея, совершенно противоположного по складу характера) были свои интересы, – и почти без общения с родителями: Сергей Иванович всю вторую половину шестидесятых годов находился в бесконечных разъездах, а Варвара Васильевна, хоть и скрепя сердце, вынуждена была, как говорилось, его постоянно сопровождать. Единственный человек, с которым он принужден был общаться ежедневно, – «бонна» Амалия Христофоровна, старая дева, беззаветно преданная семье Мережковских и почитавшая служение хозяевам единственным смыслом своей жизни. Добрый, но очень недалекий и запуганный строгостями Сергея Ивановича человек, она могла лишь обеспечить безупречный уход за многочисленными питомцами, сочетаемый с режимом строгой экономии и отчетности:
Я помню туфли, темные капоты,
Седые букли, круглые очки,
Чепец, морщины, полные заботы,
И ночью трепет старческой руки,
Когда она записывала счеты
И все твердила: «Рубль за башмаки…
Картофель десять, масло три копейки»…
И цифру к цифре ставила в линейки.
Книги с детских лет заменяли ему общение с людьми, литературные герои становились «вечными спутниками», реальность которых превосходила в его глазах реальность существующего окружения, и, главное, одиночество с тех же самых детских лет как бы «обживалось» им в качестве единственно комфортной формы существования. Малыш, гуляющий по Летнему саду, удивлял и даже пугал няньку тем, что упорно не желал играть со сверстниками, неспешно и важно кружил по аллеям, словно углубясь в беседу с самим собой. Чуть повзрослев, летом, когда семья жила на даче близ Елагинского дворца, Митя устраивал себе нечто вроде «воздушной кельи» – между ветвей корявой сосны над прудом он прибил доски и каждый день, «как белка», забирался в это «гнездышко», проводя часы (и, в общем, дни) в чтении и созерцании:
Стремясь туда, где нет людей, к свободе…
И затем – всю жизнь он будет во власти «темного ангела одиночества»:
И хочу, но не в силах любить я людей:
Я чужой среди них; сердцу ближе друзей —
Звезды, небо, холодная, синяя даль
И лесов, и пустыни немая печаль…
Там же, на елагинской даче, уже в гимназические годы он испытает первую влюбленность, тоже очень «литературную», в духе сервантесовского Рыцаря печального образа – двойную. В роли Альдонсы здесь выступала местная прачка Лена – румяная, здоровая девка, вся в веснушках и «с глазами почти без мысли», Дульсинеей же была прекрасная незнакомка, встреченная в церкви, – «вся в белом кружеве». Разумеется, ни та ни другая не подозревали, что они обрели в маленьком гимназисте паладина sans peur et sans reproche: Лена стирала белье в огромном корыте, вынесенном во двор, и потом, развесив мокрые простыни сушиться, пила чай и болтала с кухарками, а «принцесса Белая Сирень», как оказалось впоследствии, любила по вечерам играть в крокет с юнкерами.