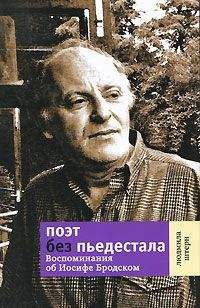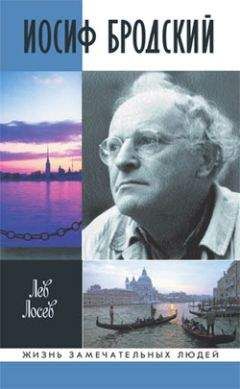Его друг Игорь Ефимов вспоминал: «Уже в октябре 1964 года, во время ночных разговоров в деревне Норенской, Бродский говорил о близком ему духе искусства. Вот то, что мы видим вокруг себя и среди чего живем, — это как частичка, ископаемая косточка от какого-то огромного целого, и по ней мы восстанавливаем это целое ничтожными долями, устремляемся наружу, во вне. Всё, в чем не содержится такого устремления — хоть немного, — чуждо ему и неинтересно. Еще он говорил, какая это жуткая штука — самоконтроль, взгляд на себя со стороны, осознание собственных приемов и ходов, отвращение к себе за эти приемы до отчаяния, до ненависти к работе, и единственное, что может спасти здесь, — это величие замысла. То есть надо ломиться через все эти стыда и страхи — с последующим подчищением, с возвратом назад, — идти ва-банк, рискуя полным провалом и неудачей, очертя голову кидаться, может быть, в пустоту, может быть, в гибельную — но только так. Позже я замечал, что возвращаться назад и подчищать он не очень склонен и что, действительно, некоторые вещи разваливаются от несоразмерности, кончаются неудачей, катастрофой, но даже эти катастрофы — великолепны в своей подлинности, как развалины Колизея или Парфенона».
Ему приходилось сложно, ибо по характеру своему он был не таким уж серьезным, скорее легкомысленным человеком, готовым пускаться на всякие авантюры. Но сделав выбор, Иосиф Бродский всю жизнь старался не выпадать из формата своего бытия, из формата величия замысла: «Есть только две вещи: твоя жизнь и твоя поэзия. Из этих двух приходится выбирать. Что-то одно делаешь серьезно, а в другом только делаешь вид, что работаешь серьезно. Нельзя с успехом выступать одновременно в двух шоу. В одном из них приходится халтурить. Я предпочитаю халтурить в жизни…» На это его признание стараются не обращать внимания. А ведь так оно и было. Весь его донжуанский список, при том, что поэт всю жизнь, по сути, любил лишь одну женщину — Марину Басманову, его восторги по поводу многих незначительных поэтов, его противоречащие друг другу интервью, которые он раздавал направо и налево, делая себе неплохой пиар, это все была, по его же словам, — халтура. А вот в поэзии он всё соизмерял с величием замысла. Он не интересовался бытом, и потому мимо него прошли все неудобства и тяготы ссылки или политических преследований.
Да и все его разговоры о равнодушии к христианству — это тоже пиар, тоже халтура. Прочитайте хотя бы его «Исаака и Авраама», совершенно библейский текст вроде бы далекого от христианства человека. Многие восхищаются его прекрасной «Большой элегией Джону Донну», написанной в северной ссылке. Но никто при этом не читает самого Джона Донна. Откройте его книгу проповедей, прочтите его «Обращения к Господу в час нужды и бедствий», его «Схватку со смертью». Это же не проза, не поэзия, это ярчайшие проповеди, высокие образцы христианского богословия, это искусство умирания, отсылающее прямо к Священному Писанию. Мог ли такой библейской книгой увлечься атеист? А от проповедей Джона Донна прямой путь и к «Нравственной Библии», и к сборнику «Зерцало величия», вышедшему в Лондоне в 1612 году.
Прочитайте «Медитации и молитвы» Джона Донна, а потом перечитайте «Большую элегию Джону Донну» — и перестаньте говорить после этого о нехристанстве Иосифа Бродского. В интервью он отмахивался, особенно в Америке, от пристававших журналистов, халтурил, говорил всякую чепуху. Хотите узнать правду — читайте его поэзию. О Джоне Донне он говорил: «У Донна мне ужасно нравится этот перевод небесного на земной, то есть перевод бесконечного в конечное». «Большая элегия Джону Донну» не просто проникнута духом христианства, а явно написана богословски образованным человеком. Атеист или агностик так не напишет:
Все крепко спит. В объятьях крепкой тьмы.
А гончие уж мчат с небес толпою.
«Не ты ли, Гавриил, среди зимы
рыдаешь тут, один, впотьмах, с трубою?»
«Нет, это я, твоя душа, Джон Донн.
Здесь я одна скорблю в небесной выси
о том, что создала своим трудом
тяжелые, как цепи, чувства, мысли.
Ты с этим грузом мог вершить полет
среди страстей, среди грехов, и выше.
Ты птицей был и видел свой народ
повсюду, весь, взлетал над скатом крыши.
Ты видел все моря, весь дальний край.
И Ад ты зрел — в себе, а после — в яви.
Ты видел также явно светлый Рай…»
Впрочем, о христианстве своем он говорил еще на суде над ним. Судья Савельева весной 1964 года спрашивала его: «А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?» Бродский отвечал: «Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?» Судья: «Не пытались ли вы окончить вуз, где готовят поэтов?» Бродский: «Я не думал, что это дается образованием. Я думал, что это… от Бога».
Я мало в чем согласен с Валерией Новодворской, но о Бродском она как филолог высказала верную мысль: «Стихи Бродского в нашем Храме — воздушное кружево, опасная, бездонная готика, пространство, зеркала, бездны. Он сродни Мандельштаму, чья плоть переходит в состояние мысли. Как у элементарной частицы. Закон неопределенности Гейзенберга: или движение, или масса. Массы у Бродского нет, как и у Мандельштама. Высший пилотаж. И тут же — зрелая, холодная, злая, сверкающая сатира, которой научили бесхитростного, доброго человека решившие извести его фараоны города Ленинграда».
Разве что я отделил бы его сверкающую сатиру от бездонной готики, сатира-то как раз имеет дно, и обычно двойное, как и его эпиграммы. Но мы же Пушкина и Лермонтова ценим отнюдь не за их эпиграммы, хотя и отдаем им должное. Здесь уж у Валерии Ильиничны прорвалась ее политическая позиция: не удержалась, решила и Бродского накрепко привязать к либералам. Никак не получится.
Впрочем, известный бродсковед Валентина Полухина как-то заметила на радио «Эхо Москвы»: «Все поэты — еретики, все они сомневаются в существовании Бога, допрашивают его, грешат перед ним, хулиганствуют… Они по природе своей… потому что само творчество противоречиво и со всем несогласно… Все поэты еретики, все. Большие, я имею в виду, поэты. Большие поэты — все. Даже очень верующие официально поэты, они еретики». В каком-то смысле это так и есть. Но Иосиф Бродский скорее в жизни позволял себе еретичность, иногда чрезмерную, в поэзии — никогда. Там у него Рай и Ад, там царят пророческие высказывания и мысли о родине: «А что касается „Комедии Дивины“… ну, не знаю, но, видимо, нет — уже не напишу. Если бы я жил в России, дома, — тогда…»
Для своей единой и цельной «Божественной комедии» ему не хватало родины. В одном из последних стихотворений он писал с предельной откровенностью:
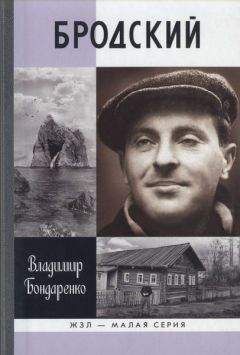

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)