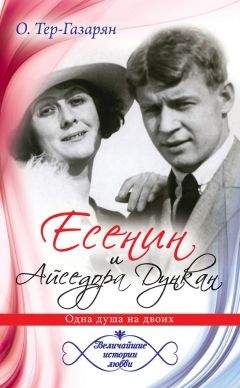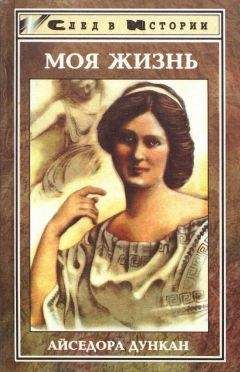Мой взгляд вдруг случайно задержался на висевшей в спальне картине, где были изображены три пухлых ангела со скрипками. Один из херувимов поразительно напоминал Есенина – те же синие бездонные глаза, мягкие черты лица, золотистые кудряшки и круглые щечки. Улыбка пробежала по моему лицу.
Надев один из своих концертных костюмов – легкую полупрозрачную газовую тунику с золотыми кружевами и золотым поясом с листьями – я припудрилась, подрисовала любимой алой помадой губы и пошла к Есенину, захватив с собой бутылку шампанского.
Мой гость выглядел смущенным – вероятно, его поразило богатство убранства дворца Балашовых. Да, наши вкусы с Балашовой не совпадали – мне куда ближе был классический античный стиль с его простыми, но изысканными и совершенными линиями. Здесь же стены и потолок были сплошь покрыты лепными узорами из золота и ярких красок – синего, красного, зеленого. Даже жерло камина было вызолочено. Есенин удивленно смотрел на свисающий с люстры оранжево-розовый шарф. Такими шарфами я «оживила» весь особняк – обычный электрический свет казался мне мертвым и безжизненным.
Словно не замечая изумленно застывшего на моем теле взгляде поэта, я, мягко ступая, почти крадучись, прошла в комнату, держа в руках бутылку шампанского и чемоданчик с патефоном.
С улыбкой я подарила Есенину долгий призывный взгляд и поставила пластинку. Зазвучали «Песни без слов» Мендельсона. Я медленно и томно разлила в бокалы шампанское, то и дело, бросая на Есенина сладострастные взгляды. Протянула ему. Сама немного отпила и закружилась, полностью отдавшись во власть музыки.
– Слушайте музыку душой! Вы слушаете? Чувствуете, как глубоко внутри пробуждается мое «я», как силой музыки поднимается моя голова, движутся руки, и я медленно иду к свету? Вы чувствуете то, что чувствую я сейчас? – страстно вопрошала я. – Достигнув вершины цивилизации, человек вернется к нaготе; но это уже не будет бессознaтельнaя невольнaя нaготa дикaря. Нет, это будет сознaтельнaя добровольнaя нaготa зрелого человекa, тело которого будет гaрмоническим вырaжением его духовного существa. Движения этого человекa будут естественны и прекрaсны, кaк движения дикaря, кaк движения вольного зверя…
Есенин смотрел на меня во все глаза, открыв рот и не двигаясь. Он не понимал ни единого слова, но я знала, что он чувствует. Я медленно, с каждым движением, все ближе и ближе подходила к оттоманке, где сидел мой застенчивый ангел, потом упала на колени и обвила его руками, затем потянулась, нежно коснулась уголка его по-детски пухлого рта, скользя вдоль слегка влажных губ, и поцеловала в другой уголок рта. Дыхание его стало прерывистым и шумным, он обнял меня и жадно начал мять своими крепкими руками. Мое тело пронзила сладкая дрожь нетерпения. Я до сих пор помню эти ощущения – настолько была прекрасна наша первая ночь любви.
Сергей – очень крепкий, мускулистый. Торс его был немного длиннее ног, но все же хорошо сложен, с длинной стройной шеей. Повадки очень мягкие и плавные, все движения тела грациозны и прекрасны. У него было белое гладкое тело, делавшее его похожим на греческую статую из мрамора.
Наша любовная борьба продолжалась несколько часов. После очередного страстного соития Есенин бесшумно оделся и, думая, что я уже сплю, на цыпочках вышел из спальни. На пороге он остановился и оглянулся на меня. И я увидела сквозь зажмуренные ресницы, что он лучился тихим счастьем…
После того, как я вернулся от Дункан, я не мог больше ни о чем и ни о ком другом думать. Сейчас же растолкал спящего Мариенгофа и принялся взахлеб рассказывать об Изадоре: «Эта баба, хоть и иностранка, но настоящий имажинист! Веришь?! Ты обязательно должен познакомиться с ней! Вот увидишь, она прекрасна!». Он, казалось, скептически отнесся к моему восторгу и запалу, и даже напомнил, что она уже в летах, но я отмахнулся – Толя любил меня задирать по делу и без.
В этот же день я отправился на Пречистенку снова, теперь уже с ним в придачу. Тяжелую дубовую дверь перед нами распахнул приветливо улыбавшийся Илья Ильич – секретарь Дункан, которого я сначала принял то ли за любовника, то ли за мальчика на побегушках. Из глубины зала навстречу вышла Изадора – ее величавая фигура в белом шелковом хитоне царственно плыла по мраморному полу. Я был немного смущен нашей с ней вчерашней тайной и от одного взгляда на нее зарделся румянцем. Она, как ни в чем не бывало, улыбнулась мне и о чем-то защебетала с Толей – верно, приняла меня за глупого мальчишку. Пока мы шли в ее покои, я, наконец-то, смог разглядеть всю роскошь дворца, в котором она обитала, – вчера мне это по понятным причинам сделать не удалось. Из вестибюля с колоннами и росписью на потолке, где у стен стояли две большие мраморные скамьи со спинками и фавнами на подлокотниках, мы по большой белой мраморной лестнице попали в огражденный балюстрадой вестибюль с колоннами из розового дерева, испещренными золотой лепкой. Отовсюду с потолка на нас взирали римские и греческие красавицы. Мы шли через высокие, двустворчатые двери, украшенные бронзовой лепниной и барельефами голов Жозефины и Наполеона, попадая то в один «наполеоновский» зал с огромной картиной, где был изображен французский полководец, то в другой. От безвкусицы господ Балашовых, проживавших во дворце до недавнего времени, захватывало дух. Далее – гостиная, со стенами, обитыми розовым аляпистым с цветами атласом и вчерашняя «восточная» комната. Потом зимний сад, имевший довольно заброшенный вид. Кое-где сохранились едва живые запыленные пальмы в горшочках и кактусы. Здесь же грустил молчаливый фонтан с маленьким опустевшим бассейном.
Наконец, мы попали в комнату Изадоры – она казалась немного проще, наверное, оттого что хозяйка поспешила прикрыть всю кричащую роскошь простыми тканями, сукнами, платками. С потолка, как я успел вчера заметить в мавританской комнате, также свисал розово-оранжевый, цвета зари, шелковый шарф. Мы с Толей сели на кушетку, а Дункан, нежно улыбаясь, произнесла, показывая рукой на стены: «C'est Balachoff… ploho chambre… ploho… Isadora fichu chale… achetra mnogo, mnogo ruska chale…». А, видимо, говорит об этом «купеческом ампире». Что ж, согласен, безвкусица страшная! Я еще немного озираюсь по сторонам, и вдруг взгляд мой падает на большой мужской портрет, стоящий на столике перед кроватью: длинноволосый молодой мужчина в лорнете, с красивым, немного капризным, лицом и выразительным взглядом. Во мне внезапно поднимается откуда-то со дна буря ревности, я вскакиваю и хватаю портрет, пристально вглядываясь в лицо соперника.
– Твой муж? – грозно вопрошаю я.
– Mоuj? Qu’est-ce que c’est mоuj? – непонимающе спрашивает Изадора.