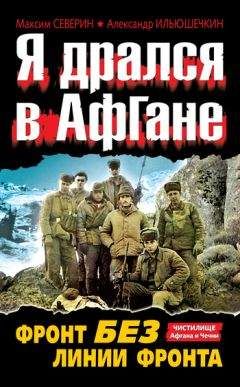Вернувшись в Москву, Фадеев готовит очерк для «Правды» и приходит посоветоваться к автору книги о Нагурском и статьи в новом издании БСЭ, которой я горжусь не меньше, чем повестью, — посчастливилось исправить такую ошибку!
Очерк Фадеева написан хорошо, увлекательно. Мы вносим некоторые уточнения, и тут меня осеняет счастливая мысль…
— Слушайте, Женя, вот уже двадцать лет я безуспешно ищу следы механика Кузнецова, он ведь не меньший герой, чем Нагурский. Хорошо бы попробовать поискать его с помощью «Правды», а вдруг…
— Отличная идея, — соглашается Фадеев.
«Правда» получила десятки интереснейших откликов на этот очерк не только со всех концов нашей страны, но и из разных стран мира.
Так из далекой Африки пришло сообщение, а потом приехал к нам в страну Андрей Владимирович Литвинов. Он родился в Париже, сражался в рядах французского Сопротивления в годы второй мировой войны, потом стал геологом и уехал в Африку. После смерти отца у него остался альбом с фотографиями — «Гидроавиация Балтийского моря 1914–1915 гг.». Этот альбом был подарен другу отца самим Нагурским!
Андрей Владимирович передал бесценный альбом Центральному музею Вооруженных Сил СССР. Но, пожалуй, самым удивительным было письмо от… сына механика Евгения Кузнецова, да еще с фотографией отца!
Евгений Фадеев проявил незаурядный талант журналиста-исследователя. Он отправился по следам полученных писем, фотографий и других документов. Собрал интереснейшие материалы. И в «Правде» появился еще один очерк Евгения Фадеева — о механике Нагурского — севастопольском моряке Евгении Владимировиче Кузнецове, ставшем впоследствии тоже летчиком: он воевал на Южном фронте и на Северном, вел разведку в заливах Балтийского моря, бомбил вражеские корабли, защищал Красный Питер. Евгений Кузнецов погиб 2 апреля 1920 года в Петергофе при испытании нового самолета…
* * *
Когда вышла моя книжка о Яне Нагурском, тут же пошли письма его сослуживцев по армии и авиации, свидетелей его полетов, совершенной им первым мертвой петли на гидросамолете… Помнится, прежде чем прочесть письмо из эстонского города Тарту, в котором еще не бывал, я внимательно рассматривал изображенное на конверте здание Тартуского университета. Это одно из старейших учебных заведений России окончил еще в 1908 году мой отец. Что же пишут из города его юности?
…Каллиграфический почерк и несколько старомодный стиль невольно обратили меня мыслями к поколению отца, мы уже так не пишем, что-то утеряно в культуре письма…
Оказывается, корреспондент не только мой читатель, но еще и пропагандирует книжку, послал ее знакомому — английскому историку авиации мистеру Ваадену. Это интересно!.. А вот и ответ Ваадена! Он воспроизведен по-английски: еще одно доказательство воспитанности неведомого мне… (заглядываю в конец многостраничного послания) Эдгара Ивановича Меоса: ничего от себя, читайте оригинал отзыва. Хватаю словарь, тут нужно разобраться точно…
«Благодарю Вас за письмо, особенно за книгу «Он был первым». Читал с большим интересом. И не только я один. Книгу эту в Англии хорошо встретили, поскольку в ней собраны сведения о ранних днях русской авиации и об этом известном русском пилоте морской авиации, о подвигах которого и необычной судьбе у нас почти ничего не знают…»
Дома никого нет, не с кем поделиться радостью. Так и не дочитав письмо до конца, звоню отцу. Ему уже около восьмидесяти лет, и успехи единственного сына — самая большая радость. Едва услышав о необычном письме, человек дотошный и весьма скрупулезный по отношению к документам — старый русский юрист, бывший петербургский присяжный поверенный, требует:
— Читай все с самого начала! Читаю, повторяю отзыв англичанина.
— Это все? — спрашивает отец. — Кто этот человек? Как он подписался?
— Эдгар Иванович Меос.
— И только?
— Возможно, еще что-то есть, письмо большое…
— Ты что, смеешься надо мной? — вспыхивает отец. — Читай немедленно дальше и ничего не пропускай.
После сообщения о том, что книжки в Таллинне все распроданы, Эдгар Иванович ездил туда специально, он деликатнейшим образом просит прислать экземпляр с автографом для его коллекции книг об авиации, поскольку свой экземпляр отправил в Англию.
— Пошли немедленно! — распоряжается отец. — Что дальше?
«Теперь позвольте представиться: я, бывший летчик русской армии, учился во французских школах высшего пилотажа, воздушного боя и воздушной стрельбы в По и Казо, а потом стажировался на французском фронте в 3-й эскадрилье «Аистов».
— Интересный человек, — комментирует отец.
— Интересный, — соглашаюсь я, еще не подозревая, что самое главное в этом письме впереди. Не стану его цитировать дальше, оно большое, но из него я впервые узнаю, что в годы первой мировой войны среди офицеров французской авиации было много русских летчиков-добровольцев, имена которых знала вся Франция: Виктор Федоров, сбивший тогда чуть ли не два десятка вражеских самолетов, Харитон Славороссов, Белоусов, Пульпе, Аргеев, Маринович, Кириллов, Жариков…
Меня поразил и сам факт, и обилие имен. Почему же мы, так хорошо знающие все о подвиге французского полка «Нормандия — Неман», не имеем понятия о такой достойной странице истории русской авиации?
Завязалась переписка. Эдгар Иванович оказался весьма обязательным человеком. Чтобы ответить на мои вопросы, он не только сообщал о том, что знал, но рассылал запросы в разные города своим старым коллегам по авиации, разбросанным по всему миру, присылал документы.
«…Отвечаю на ваш вопрос: как попали русские летчики во Францию? Были летчики-спортсмены, застигнутые во Франции войной, политические эмигранты, бежавшие из германского плена, просто добровольцы — люди, жившие в то время во Франции, наконец, командированные из России военные летчики для обучения в специальных школах высшего пилотажа и воздушного боя, среди которых был и ваш покорный слуга. Между прочим, я окончил обе школы и по протекции русского военного агента (военного атташе. — Ю.Г.) попал в ряды «Аистов».
Моим учителем воздушного боя был Жорж Гинемер, чье имя как «метеора войны» высечено на стене Пантеона.
О русских летчиках во Франции писали очень много, их имена не раз назывались в приказах по армии. Русский художник Сергей Соломко написал несколько картин, изобразив наших летчиков-добровольцев. Неутомимость «русских крылатых казаков», их хладнокровие, героизм приводили в восхищение даже скупое на похвалы французское командование…».
Это было чрезвычайно интересно… но, чтобы ожила та эпоха, прояснились судьбы героев, понадобились долгие и долгие годы поисков.