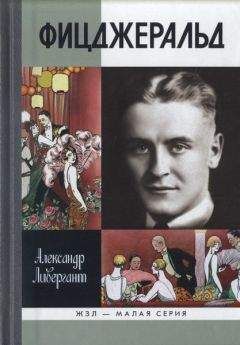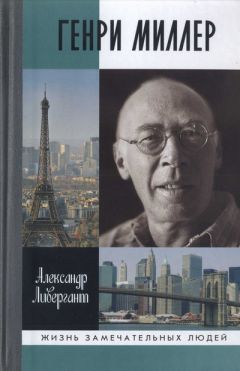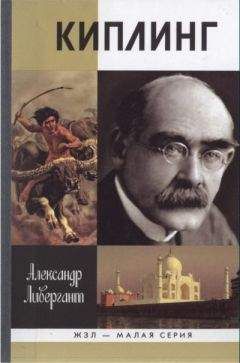Вот почему в отрочестве Скотт больше тяготел к отцу, который, как и священник, отец Дика Дайвера, героя романа «Ночь нежна», учил его «вечным человеческим ценностям», внушал, как важно развивать в себе «внутреннее чутье»[13]. Которому безотчетно подражал — и прежде всего его умению подать себя. Подражал — увы, далеко не всегда успешно — отцовской сдержанности, воспитанности, всему тому, чего матери, да и ему самому, так недоставало. С отцом проблем было меньше — оттого он и любил его больше, вместе с тем — обычная история — оценил его по-настоящему, как и мать, лишь после его смерти. «Он любил меня, — писал Фицджеральд в 1931 году в неопубликованном очерке „Смерть моего отца“. — Любил и чувствовал за меня огромную ответственность, стремился быть моим нравственным поводырем». Насчет ответственности Фицджеральд явно погорячился («о покойниках, известное дело, либо хорошо, либо ничего»), а вот нравственным поводырем Эдвард для сына, безусловно, был.
В отличие от Молли, хотя воспитанием Скотта занималась главным образом она. Давала читать книжки, в основном, правда, макулатуру, внимательно, даже с пристрастием, следила за его успеваемостью и кругом общения, водила в церковь — делала всё, чтобы Скотт рос, как в свое время и она, правоверным католиком. Это по ее инициативе — хотя и муж тоже был человеком верующим — юный Фицджеральд прошел все ступени католического взросления. Из монастыря Святого Ангела перекочевал сначала в одну частную католическую школу, потом в другую, исправно ходил вместе с родителями к мессе. Ходил исправно, а вот вел себя в божьем храме не всегда подобающе. Как-то во время службы, заметив, как один из служек, зазевавшись, чуть было не поджег свечой кружевную накидку на спине другого служки, он так рассмешил своим наблюдением стоящего рядом приятеля, что пришлось обоих из церкви выпроводить. Спустя несколько лет, вернувшись в Сент-Пол на каникулы из школы под Нью-Йорком, оскандалился еще больше. Вошел в церковь, когда служба — и не какая-нибудь, а рождественская — уже началась, прошествовал по проходу у всех на виду и — то ли со страху, то ли из эпатажа — на всю церковь, обращаясь к священнику, прокричал: «Не обращайте на меня внимания, продолжайте читать проповедь!»
Набожным католиком, несмотря на все старания матери, Скотт не стал. В свое время он напишет Эдмунду Уилсону: «В церковь я не хожу, прозрачных четок не перебираю и не бурчу над ними бог весь что»[14]. И вместе с тем, как и герой «По эту сторону рая», считал, что католичество было для него «хотя бы призраком какого-то свода правил». Анабелла придерживалась на этот счет другого мнения; в своих воспоминаниях она утверждает, что брат был ребенком набожным и веру, дескать, утратил только в протестантском Принстоне, где подпал под «тлетворное» влияние «нехристей» вроде Оскара Уайльда, Алджернона Чарлза Суинберна, Герберта Уэллса. Если вспомнить, однако, «джазовый» образ жизни автора «Великого Гэтсби», то его религиозность преувеличивать стоит едва ли. Не случайно ведь спустя много лет Церковь отказала «набожному ребенку» в похоронах по католическому обряду. В этой связи приходят на ум и воспоминания канадского писателя Морли Каллагана, встречавшегося с Фицджеральдом в Париже в конце 1920-х голов. Фицджеральд наотрез отказался идти в Сен-Сюльпис, вспоминает Каллаган. «Я в церковь не пойду. Если хотите зайти внутрь, я подожду вас снаружи… я никогда не вхожу в церковь». На вопрос, в чем дело, Скотт ответил: «Не хочу об этом говорить, не спрашивайте. Это личное. Ирландское происхождение, католическая семья и все прочее…» Приведем в качестве «всего прочего» стихотворение молодого Фицджеральда «Папа на исповеди», написанное в феврале 1919 года, — для отношений писателя с католической церковью оно характерно.
Римский папа на исповеди
Накрыла ночь роскошный Ватикан,
Вокруг взирая черно-белым взором,
Не отзываясь дрожью на орган,
Слонялся я по темным коридорам
И услыхал — за ширмой, где придел,
Какой-то слабый шепот, будто кто-то
Молился; я сквозь сумрак разглядел:
В каморке тесной — двое у киота.
Монах в рядне, объятый полусном,
Кренился вбок и силился смиренно
Постичь греха последний, серый лед,
Что, плавясь, жаждал стечь, коробя рот
У старичка, склонившего колена
С тоской и болью на лице святом…[15]
Как бы то ни было, Молли жила сыном, носилась с ним, принимала близко к сердцу все его заботы, реальные и мнимые, была в курсе всех его дел, сердечных в том числе. Когда он был ребенком, пичкала его сказками и лакомствами. В школьные же годы придавала немалое значение тому, как он одевается; туалеты сына-старшеклассника занимали Молли куда больше, чем ее собственные. Наряжала Скотта во все самое модное и элегантное; его шелковые галстуки, лакированные штиблеты и сорочки фирмы «Итон» являлись постоянным предметом зависти соучеников, тем более — их родителей. Когда же Фицджеральд вырастет, начнет писать, вернется в отчий дом переписывать свой первый роман, — будет отвечать на телефонные звонки и на пушечный выстрел не подпустит к общительному сыну никого из его многочисленных знакомых, стремящихся пообщаться со «столичной штучкой»:
Баловала, но и обучала — правда, без особого толка — хорошим манерам. Со временем отправит мальчика в танцевальную школу, где искусству вальса и мазурки, вкупе с поклонами и книксенами, а также начаткам «науки страсти нежной» юных леди и джентльменов будет прилежно обучать, нередко повышая на них голос, профессор Бейкер — полный человечек с седыми усами, блестящей лысиной и стойким запахом рома изо рта. Танцевать двенадцатилетний Фицджеральд так толком и не научится, зато «науку страсти нежной» освоил: влюбился в свою сверстницу — увы, без взаимности. Таким образом, под присмотром Молли Скотт медленно, но верно входил в образ «романтического эгоиста» — свой первый роман писатель назвал, надо полагать, имея в виду прежде всего самого себя.
Когда же в этот образ вошел, в нем освоился, к родителям заметно охладел, от них отдалился. Теперь и суматошная мать, и неудачник-отец раздражали его одинаково. Она, еще больше, чем раньше, — своей чудаковатостью, вечными нравоучениями. Он — вялостью, бессодержательностью, отсутствием интереса к жизни. Той самой джентльменской сдержанностью, которая некогда так ему импонировала. Мало сказать, охладел; в несходстве родителей видел отчасти причину своих комплексов. «Я наполовину безродный ирландец, а наполовину американец из семьи с уходящими в историю корнями и, соответственно, завышенными претензиями, — писал он в 1933 году Джону О’Хара[16]. — У моей ирландской родни были деньги, и на родню мэрилендскую они смотрели поэтому сверху вниз. Те же, в свою очередь, кичились тем, что принято называть старым, затасканным словом „порода“. Вот откуда у меня двойной комплекс неполноценности. Стань я даже королем Шотландии, я бы все равно остался парвеню».