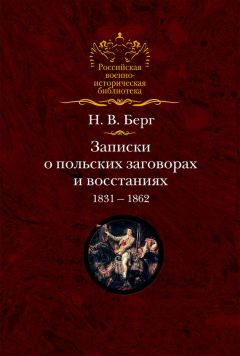Местом для этой пробной манифестации был избран один из отдаленных костелов, именно Кармелитов[177] на Лешне, где наблюдение полиции не так сильно: в конце улицы даже почти не видно так называемых стойковых[178].
В 12-м часу утра, в сказанный день, собралось туда множество Академиков, ремесленников и всякого праздного народа, помоложе и покраснее, кто начал уже революционно просвещаться – всякими толками, патриотическими песнями, стихами, портретами давних героев Польши, что распространялось красным кружком поминутно, в литографированных экземплярах, по всему городу, не встречая особенного препятствия со стороны полиции. Очень много портретов Костюшки и Килинского было роздано и тут. Затейники подбивали было ксендза произнести патриотическую, соответствующую минуте проповедь, но он не согласился. Все же остальное: раздача портретов, особые одушевленные молитвы – сошло с рук совершенно благополучно. Весь тот день, однако, манифестаторы поглядывали вопросительно на русских: «Что они думают? Знают они или не знают о том, что произошло на Лешне и кто этим распоряжался?»
Русские ничего не знали. Когда партия в этом убедилась, решено было повторить манифестацию вечером того же дня, сделать ее как следует, открыто, без всякой церемонии с полицией, чтобы видел уличный народ и выразил сочувствие или несочувствие.
Более всего на этом настаивал неукротимый, чисто-начисто безумный фанатик, Карл Новаковский, пользовавшийся некоторым влиянием в кружке и довольно известный в городе по своему патриотизму и готовности на все в любую минуту. Урезонивать его, когда он начинал говорить о необыкновенном значении манифестаций, было очень трудно, да, может, и некому в то время. Большинство под влиянием утренней манифестации хотело повторения таких сцен, забывши всякое благоразумие, забывши, что недавно говорилось, по-видимому, очень серьезно, на заседаниях комитета в противность манифестациям. Утренняя шалость была для этого горячего народа рюмкой водки перед обедом, раздражившей аппетит и требовавшей обеда. Новаковский взялся его подать, выступил полным хозяином этого дела. По его команде, часов в 6–7 вечера, собралась огромная толпа народа перед статуей Богоматери на той же улице Лешне; принесен стол, зажжены лампады, и, когда молящиеся пали на колени, Новаковский, детина высокого роста с голосом как труба, «дернул» (да позволит нам читатель это слово) «Bоźe coś Polskę» старый, забытый всеми гимн двадцатых годов, написанный Алоизием Фелинским, автором нескольких подобных стихотворений[179]. Впечатление было необычайное: у всех присутствующих полились слезы…
Это было первое «Bоźe coś Polskę» этого восстания[180]. Затем пропеты: «Z dymem pożarów» «Bоźe ojcze, Twoje dzieci», и некоторые другие, а в заключение раздалось, по уверению иных: «Jeszcze Polska nie zgineła».
При этом снова разбросано множество портретов Килинского и Костюшки и печатных тетрадей с народными гимнами и песнями[181].
И эта манифестация сошла с рук благополучно. «Полиция совершенно равнодушно на все это смотрела», – пишет Авейде[182].
Манифестаторы решились подвинуться к центру города.
Через неделю с небольшим толпа учеников реальной гимназии младшего возраста собралась в костеле Бернардинов на Краковском предместье и отслужила панихиду по убиенным полякам 1830–1831 годов, причем пропето несколько патриотических гимнов.
Это, собственно, была только проба, balon d'essai красной партии: нарочно пущены ребятишки и, как действительные ребятишки, не привлекли ничьего внимания. Арестов не последовало. Но когда манифестация была повторена старшим возрастом, с прибавлением городского элемента, под командой Асныка, у святого Креста (тоже на Краковском предместье), – произошли аресты. Аснык и многие из его приятелей посажены в цитадель[183].
Весь город заговорил о манифестациях. Благоразумнейшие из граждан, можно сказать, все белое города, требовали от вождей красной партии (которые более или менее были известны всем патриотам), чтобы они прекратили беспорядки, угрожавшие «солидным работам» заговора, который шел вообще недурно. Красная партия, вследствие таких заискиваний оттуда, откуда к ней не доносилось ничего, кроме явного пренебрежения и ругательства, почувствовала род какой-то силы и сейчас же сбилась с толку совершенно по-детски. Ответ ее белым был таков, что она «положит немедля предел манифестациям, если только Земледельческое общество решится на подачу всеподданнейшего адреса, не спрашивая наместника. В адресе этом высказать если не жалобы на бесхарактерное управление Польшей, то хоть заявление о необходимости в ту минуту самых существенных реформ, отвечающих духу времени и задуманным в империи чрезвычайным преобразованиям. Если же этого не последует, вожди не станут удерживать молодежь, и манифестации пойдут за манифестациями, вследствие чего все, может быть, станет вверх ногами; но кто будет в этом виноват, решить трудно. Вожди красных заранее умывают руки».
Часть белой партии покраснее, словом, такие же сбившиеся с толку ребята, забывшие, что их сила есть сила чисто отрицательная, заключавшаяся в слабости правительства, что выйди правительство хоть чуть из роли, которую, к общему удивлению, играло, и эта сила сейчас бы обратилась в нуль, – часть такой белой партии готова была согласиться на требование красных: написать что-нибудь грозное в Петербург; попросить, например, введения Органического статута [184]; но другая половина белых, посолиднее, пока еще не сбившаяся с толку, нашла необходимым отказать красным напрямик, и в случае, если б они выступили против братьев и их работ враждебно, выдать их правительству с головой.
Таково было решение белых в первую минуту; но, обсудив дело подробнее, всмотревшись как следует в то, что сидело тогда в Варшаве на месте правительства, – белый лагерь передал красным, что Земледельческое общество подвергнет предложенные ему вопросы обсуждению на общем съезде всех членов, на вальном, так сказать, сейме, в январе 1861 года.
Это значило, для красных, откладывать дело в долгий ящик, дело, не терпящее отлагательства ни минуты; а потому положено идти прежней дорогой, куда бы она ни привела: не прекращать манифестаций. Вследствие испытанного уже настроения публики к подобным зрелищам предвиделась возможность устроить манифестацию на широкую руку, в таких размерах, что полиция помешать ей будет не в состоянии, если б и захотела; но она, по всей вероятности, и не захочет. Столкновения же с войсками бояться нечего; оно, напротив, желательно: тогда Петербург догадается, без всяких адресов, что надо делать.