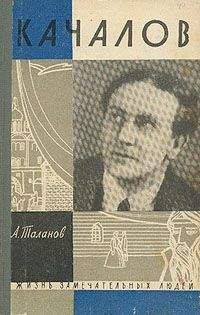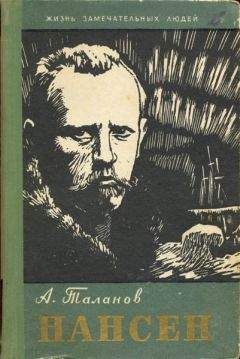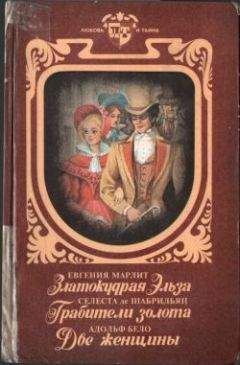Из Берлина «художественники» дважды выезжали в Данию, Швецию и Норвегию. Там они также были желанными гостями.
Успех ширился. Импресарио предлагали устроить длительные гастроли в Америке, Англии, Скандинавии. Сулили славу, деньги.
Однако Качалов и большинство его товарищей отвергли все эти предложения. «Впереди у нас должна быть только Москва!» — убежденно говорили они.
Честное, мужественное решение! Надо ли доказывать, что вызвано оно было неизбывной любовью к родине? Ведь Советская страна, еще не залечив тяжких ран, нанесенных войнами и интервенцией, холодала и голодала, а США и Скандинавские страны находились в состоянии «просперити». Нью-Йорк, Стокгольм, Осло манили к себе соблазнами комфортабельной жизни.
«Тем не менее, Москва с ее трудностями быта мне дороже всех благ буржуазного мира», — настойчиво утверждал Качалов, споря с теми, кто малодушествовал и колебался.
И было еще нечто очень большое, важное, что он, как истинный художник, ценил превыше всего. Театр. Искусство.
А разве успех, сопутствовавший выступлениям «художественников» за рубежом, не свидетельствовал, что дело театра цветет? На этот вопрос Качалов положа руку на сердце ответил бы отрицательно.
Положение ГАХТ — так сокращенно именовалась группа артистов Художественного театра за границей — и положение основной труппы в Москве существенно разнилось.
ГАХТ мог гордиться яркими артистическими звездами в своем составе. Но даже их имена не позволяли считать этот театр подлинно Художественным, созданным гением Станиславского и Немировича-Данченко, завоевавшим всемирную славу своим искусством. Слишком многого ему недоставало, и слишком серьезные оговорки для того приходилось делать.
Главное заключалось в том, что в Москве на своем прежнем месте, в переулке, называвшемся Камергерским, существовал доподлинный Художественный театр. Правда, творческие силы его были ослаблены из-за отсутствия многих выдающихся артистов.
Да и время было трудное для развития искусства в стране.
Казалось, было не до театра, как говорится: «не до жиру, быть бы живу». Тем не менее молодое Советское государство, отдавая все силы борьбе с голодом, холодом, разрухой, одновременно заботилось об искусстве для народа.
Несмотря на бесчисленные трудности, Художественный театр в Москве жил и ставил перед собой большие задачи. Станиславский и Немирович-Данченко делали все возможное, чтобы сохранить свое детище и сделать его достоянием нового, советского зрителя.
Как далеки от этих больших целей были артисты, вынужденные находиться на чужбине! Им приходилось лишь мечтать о высотах искусства. Они кочевали, их театр был бродячим, они показывали только старые спектакли, которые раньше играли на родине.
Руководители Московского Художественного театра принимали все меры для воссоединения труппы. Они внимательно следили за судьбой товарищей, скитавшихся в чужих странах, в своих письмах настойчиво звали вернуться, морально их поддерживали и хлопотали о скорейшем возвращении их в Москву.
Осуществить это было не просто. Раскаты гражданской войны и вооруженной интервенции долго не утихали. Всяческие барьеры воздвигались врагами вокруг Советской страны. Одним из таких барьеров были паспорта, визы, пропуска, разрешения иностранных правительств, посольств, консульств.
Даже почтовая переписка налаживалась с трудом. Только на третий год пребывания за границей Качалову удалось установить связи с московскими друзьями. Вот как он описывал тогда Немировичу-Данченко свое скитальческое положение: «У меня, а я в лучших, чем многие мои товарищи, условиях, нет денег, ни теплого пальто, ни платья — я ношу перевернутый деллосовский фрак, нет ни белья, ни обуви».
Самое скверное, на что жаловался артист, — был творческий голод. Неудовлетворенность художника не давала покоя во все время странствований по городам Европы. Особенно мучило, что играть приходилось только старый репертуар, не создавая ничего нового. И любимые роли доводилось играть редко, случайно, в зависимости от коммерческих условий гастролей. «Гамлета играл лишь восемь раз за три месяца…» — с горечью пишет Василий Иванович в Москву.
Стоит ли удивляться тому, что когда руководители Художественного театра получили возможность заняться воссоединением расколотой труппы и известили о том товарищей, находившихся за рубежом, то Качалов откликнулся сразу же и восторженно.
«Дорогой Владимир Иванович! — писал он Немировичу-Данченко. — Конечно, я приеду в Москву, конечно, я вернусь в театр. Если застану театр умирающим, буду делать все, что в моих силах, чтобы помочь встать ему на ноги. Если застану его развалившимся, то никогда не прощу себе, что опоздал с помощью, и от одной мысли об этом делается мне страшно… Мне нужен театр больше, чем я ему, — это мое самое глубокое убеждение и самое непосредственное чувство».
Только человек, пламенно любящий свой театр, преданный ему безраздельно, мог написать такие строки. В искренности их невозможно сомневаться!
С другой стороны, и полное возрождение Художественного театра было невозможно без возвращения в его состав талантливых артистов и артисток, таких, как Качалов и Книппер.
Немирович-Данченко отлично понимал это и не закрывал глаза на необходимость слияния труппы. Потому он убежденно писал в Берлин Качалову: «Без слияния с Вами Театр, Художественный Театр, кончится. Может быть, начнется какой-то другой, но наш Художественный отправится в Лету».
И тот, к кому был обращен этот призыв, при первой возможности вернулся в родной дом. Вернулись и многие другие «художественники».
Однако количественное увеличение труппы еще не разрешало серьезных творческих проблем. Театр, как любой живой организм, не может находиться в состоянии застоя, должен неизменно двигаться вместе со всей жизнью вперед.
Качалов никогда не почивал на лаврах, не оставался ни к чему равнодушным. И слово его не расходилось с делом. Обещав сделать все, что будет в силах, чтобы помочь своему театру «встать на ноги», он отдавал этому душу.
Василий Иванович обращается к друзьям по искусству со страстным предостережением:
— Мне кажется, нельзя продолжать старое, то есть, во всяком случае, теперешнее. Не представляю себе, чтобы продолжали играть то, что мы играем сейчас, и так, как мы играем сейчас.
Надо было обладать острым чувством нового, чтобы мыслить так свежо, молодо, созвучно нарождавшейся революционной эпохе.
Вокруг бурлила жизнь. Она требовала от искусства нового содержания и ломки старых форм. Без счета возникали различные театральные студии, кружки, школы и школки, широко вещавшие о своих исканиях и дерзаниях. Проку от них было мало. С другой стороны, кинематография набирала силы и все более настойчиво соперничала со своим старшим братом — театром.