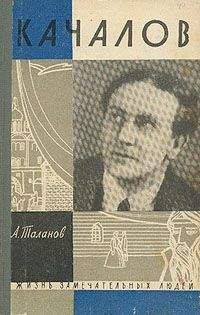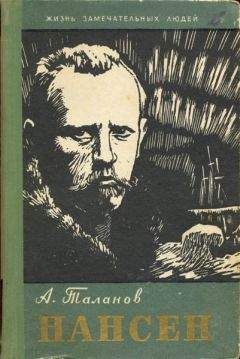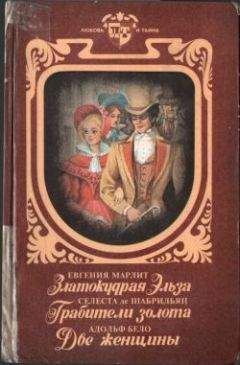Первые впечатления Качалова от Америки были сумрачны. Чужая страна и чуждые нравы сразу оказались ему не по душе. С глубокой иронией описывал он встречу Художественного театра в Нью-Йоркском порту:
«В довершение всей грусти был утром туман, падал мокрый снег и слепил глаза. Кроме мокрого снега и тумана, на нас тут же посыпались целой кучей интервьюеры и фотографы, которые влезли на пароход, выехав нам навстречу. Меня забросали вопросами, сколько нас, как живется в Москве, в Париже, в Берлине? А почему не приехал Немирович-Данченко? Он жив? Всё с баками? А ведь Станиславский был всегда с черными усами, — почему их на нем нет? А Орленева нет с нами? Качалов, так вы же из Вильно, — что можете сказать про Вильно?
Начались съемки. Снимали нас и по одному и группами. Наконец подплыли к пристани Нью-Йорк. Первым входит на пароход по мосткам Морис Гест, наш антрепренер. Красные с золотом буквы на банте в петлице. За ним толпа русских и американцев — с теми же бантами. Тут же передают, что нас должен был встречать архиерей в облачении — с певчими, приглашенными Гестом, но в последнюю минуту не решился. Работают кинематографщики. Сходим по мосткам… Наконец садимся в жесткие такси, и подскакивая и ударяясь головой о крышу кареты (ухабы, рытвины, лужи), подъезжаю к дому, где буду жить. Весь тротуар перед подъездом дома — сплошная, громадная мусорная куча, покрытая тающим снегом. Торчит из кучи железная кровать, ножки сломанного стула, жестянки от консервов, картонки, башмаки, бутылки, банки. Нога попадает в сугроб, из сугроба — в лужу».
Гастроли в Америке начались «Царем Федором». По американской традиции, спектакль шел целую неделю подряд. В первый же вечер исполнителя заглавной роли встретили аплодисментами и проводили цветами. Не меньший успех имел он и в спектакле «На дне» в роли Барона.
Работать приходилось много и напряженно. Иной раз в спектакле «Три сестры» Качалов, сыграв Тузенбаха, чтобы дать отдохнуть Станиславскому, перегримировывался в Вершинина. Иногда из вечера в вечер, в продолжение недели, играл трудную роль Анатемы.
Весной театр отправился вглубь страны — Чикаго, Филадельфию, Бостон. Гастроли и тут проходили с шумным успехом. Наибольшие лавры доставались Качалову, которого американская пресса признала величайшим артистом мира.
Однако огромный успех, выпавший на его долю, не давал ему настоящего, полного удовлетворения.
На глазах его происходило то, что он предвидел давно и чего так опасался: длительный отрыв от родины, постоянные переезды из страны в страну, из одного чужого города в другой парализовали нормальную творческую жизнь театра.
На проторенных гастрольных дорогах и перекрестках театр перестал искать новые пути в искусстве и остановился в своем росте. Качалов с болью смотрел на афиши, на которых за время гастролей не прибавилось ни одного нового названия пьесы. После выезда из Москвы репертуар оставался все тем же, как будто искусство и сама жизнь совсем замерли.
Изо дня в день, из месяца в месяц артисты труппы играли свои старые роли из ограниченного гастрольного репертуара. Кочевые условия не позволяли и думать о новых спектаклях, о регулярной репетиционной работе. Потому и Качалов играл только свои старые роли, главным образом «двух баронов».
«Это похоже на наказание за какие-то грехи, — говорил он. — И что же впереди?»
Беспокойство нарастало, переходило в тревогу. Наконец артист «бьет в набат», обращается к Станиславскому:
«С благодарностью к судьбе я вспоминаю всю мою отданную театру жизнь, всю мою подчас радостную, а подчас и тяжелую, но верную, добросовестную и «беспорочную» до девятнадцатого года службу Художественному театру. И, может быть, больше всего благодарен театру именно за то, что он научил меня служить ему, потому что это и была наибольшая радость из всех радостей, которую он давал наряду с обидами.
Отчего же теперь я совсем не ощущаю этой радости «послужить» Художественному театру? Отчего не смотрю ясно и с верой вперед, а озираюсь тоскливо по сторонам и только жду, когда же можно будет «соскочить с автомобиля».
Скопилось ли столько личной неудовлетворенности, что она вытеснила радость служить театру, или же все дело в том, что нечему служить, что нет Художественного театра, нет его искусства, нет его жизни и атмосферы? И то и другое вместе. Потому и неудовлетворенность и «обиду» чувствуешь сильнее, что нет театра, не ради театра ее терпишь, а просто от компании людей, умеющих себя показать и за себя постоять.
Мне так ясно, что нет сейчас Художественного театра, что не хочется доказывать эту очевидность, не хочется ломиться в открытую дверь. Может быть, он когда-нибудь воскреснет, но вот уже год проходит (а может быть, уже больше), как театр мертв.
Театр, не творящий нового, не театр. Это ясно! Он перестает быть театром, как перестает быть мастером тот портной, который не может сшить нового костюма, только «принимает переделку, чистку, утюжку». Никого не виню. Только констатирую. Театра нет…»
Мужественная прямота. Непреклонная честность. Боль за дорогое, любимое дело. Неизбывная тоска художника. Все это продиктовало обращение к Станиславскому.
Василий Иванович ничего не таил от «КС», художественный и моральный авторитет которого для него был непререкаем. Потому он говорил всю правду в глаза, как бы она ни казалась резка и неприятна.
Вот продолжение его обращения к Станиславскому:
«Театру можно и должно служить. От театра можно терпеть обиды. Театру даже радостно приносить жертвы. Но «поездке» служить не надо, поездке приносить жертвы — жалко, от поездки терпеть обиды — недостойно. Ведь это же не та поездка, какие у нас бывали в Петербург или Киев, которые нужны и полезны театру, в которых он отдыхал, освежался и не переставал работать творчески. Разве это может пройти безнаказанно для Театра, разве это приблизит его воскресение? Не верю!»
Чутко откликнулся Станиславский на голос, в котором звучали почти трагические нотки. Ответ его был самоотверженным. В самом деле, разве легко отдать свою роль другому, притом роль любимую, неизменно вызывающую бурное одобрение публики?
Доктор Штокман из одноименной пьесы Г. Ибсена. В сравнительно не великом списке ролей, сыгранных Станиславским в Художественном театре, доктор Штокман занимает одно из первых мест. Это был замечательный самобытно созданный образ ибсеновского героя. Тем не менее артист и руководитель театра уступал свою роль собрату по сцене.
В театральных анналах случай небывалый!
Качалов благоговейно отнесся к предложению играть доктора Штокмана. Все же поначалу он решительно отказался принять дорогое «наследство» вопреки настойчивым уговорам друзей взяться за роль в спектакле, который будет показан в городах Америки, в Лондоне, в Берлине.