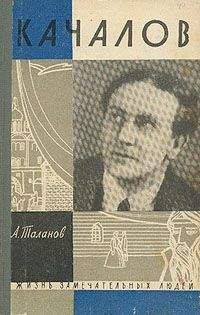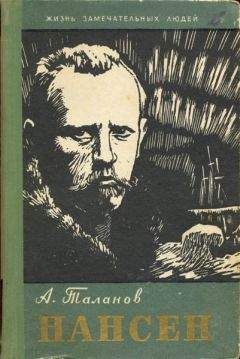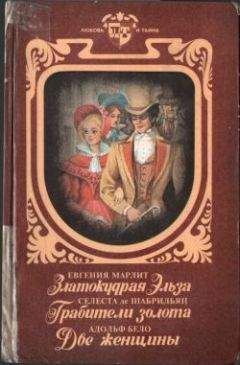Чутко откликнулся Станиславский на голос, в котором звучали почти трагические нотки. Ответ его был самоотверженным. В самом деле, разве легко отдать свою роль другому, притом роль любимую, неизменно вызывающую бурное одобрение публики?
Доктор Штокман из одноименной пьесы Г. Ибсена. В сравнительно не великом списке ролей, сыгранных Станиславским в Художественном театре, доктор Штокман занимает одно из первых мест. Это был замечательный самобытно созданный образ ибсеновского героя. Тем не менее артист и руководитель театра уступал свою роль собрату по сцене.
В театральных анналах случай небывалый!
Качалов благоговейно отнесся к предложению играть доктора Штокмана. Все же поначалу он решительно отказался принять дорогое «наследство» вопреки настойчивым уговорам друзей взяться за роль в спектакле, который будет показан в городах Америки, в Лондоне, в Берлине.
Соблазн был велик. Но требовательность художника к самому себе была превыше всего. Нет, не в натуре Качалова было браться за то, что сулило лишь внешние выгоды. И он уговаривал себя отказаться от привлекательного предложения.
Не сгоряча пришло такое решение. Внимательно перечитал Качалов давно знакомую пьесу. Вчитывался в нее как взыскательный художник, как творец, а не копиист, слепо повторяющий образ, созданный другим мастером. Все более ощущал он трудности роли — необходимость пережить ее всю заново, согреть и оживить глубокой искренностью, найдя свой, неповторимый образ доктора Штокмана.
Ранее, видя Штокмана — Станиславского, он считал, что это увлекательный, интересный, но отнюдь не ибсеновский образ. Поэтому играть его следует ближе к замыслу автора, тогда получится, быть может, менее трогательно, зато вернее.
Лучше ознакомившись с пьесой, Качалов понял свое заблуждение и честно признался в том Станиславскому:
— Ваш Штокман — самый верный, самый подлинный, ибсеновский. Ибсен написал все то, что вы сыграли. А вы дали плоть и кровь всему тому, что было у автора в душе.
То был не пустой комплимент. Качалов убежденно и последовательно развивал свою мысль:
— Можно найти какую-нибудь другую внешнюю характерность, но, по существу, по душевным элементам никакого другого Штокмана, кроме вашего, Константин Сергеевич, нет и быть не может. И не должно быть! Всякий другой будет мертвым, в лучшем случае полуживым, однобоким, стало быть, не ибсеновским. Даже переставить элементы вашего Штокмана, иначе их комбинировать, в другой пропорции распределить — невозможно. Именно тем велик ваш Штокман, что все его элементы взяты в авторской пропорции. Оттого он такой живой и гармоничный, архитектурно-прочный, вечный.
Перечтя пьесу, я уже не могу мечтать о создании какого-нибудь другого Штокмана, не похожего, не родственного вашему. А ведь он должен быть «моим», а не вашим. Скопировать его внешне можно, но передать внутренний образ, то есть сыграть все «ваше», то, что у вас подлинное, живое и настоящее, — это будет безобразие и профанация. Я обязан создать «своего» Штокмана, составленного из тех же элементов, взятых, вероятно, в той же пропорции, как и ваш, однако «своего». То есть все нужное для Штокмана должно родиться в моей душе. Иначе ничего, совсем ничего не выйдет!
Законченная концепция большого художника заключена в этих простых, ясных словах. Искусство его самостоятельно, свободно, индивидуально. Даже если приходится ему заимствовать некоторые элементы чужой роли, то и тогда он вносит свое личное во внешний и внутренний мир создаваемого образа.
Василий Иванович заканчивал свой ответ «КС» таким выводом:
— В сентябре я должен играть Штокмана. Будь я даже в десять раз талантливее, в такой срок ничего, кроме самого безнадежного, постыдного выкидыша, дать не могу. Может быть, к декабрю, к Америке что-нибудь живое и необходимое для роли я бы нашел в себе, но сейчас это безнадежно. Право, не знаю, что мне делать!..
Летом 1923 года Художественный театр на два месяца прервал гастроли. Труппа вернулась в Европу для отдыха. Качалов с семьей поселился в тиши немецкой деревни в горах Гарца, у подножья Броккена.
После шумных, бурлящих американских городов жизнь в сельской тиши казалась покойным сном. Леса и горы Гарца напоминали Василию Ивановичу живописные окрестности Кисловодска. Он совершал далекие прогулки в лесную глушь, взбирался на горные кручи. Мечты уносили его в родные места, в любимую Москву, где жизнь всегда обретала для него настоящий творческий смысл и назначение.
Лето в уютной деревенской обстановке позволило найти и то «живое и необходимое», чего недоставало для создания образа доктора Штокмана. Это понятно: вне суматохи гастролей Качалов вновь стал ощущать себя артистом-творцом, а не актером-ремесленником, обязанным каждодневно играть свои старые роли.
Осенью, прежде чем вернуться за океан, театр остановился в Париже. Качалов играл тут почти во всех спектаклях гастрольного репертуара. Парижская публика в высшей степени оценила искусство русского артиста. Василий Иванович скромничал, когда сообщал друзьям москвичам: «За Ивана Карамазова я слышал от французов и от русских такие похвалы, каких, пожалуй, раньше не слышал, даже как-то неловко рассказывать».
Второй сезон в Америке Художественный театр начал в Нью-Йорке, затем побывал в других крупнейших городах: Чикаго, Детройте, Питсбурге, Кливленде, Филадельфии, Вашингтоне.
Американские зрители увидели качаловского Штокмана. В нем имелись некоторые черты образа, созданного Станиславским, однако его внутренний, духовный мир был совсем иным. Герой ибсеновской пьесы как будто родился вновь и начал жить по-другому.
Как? «По-качаловски»…
Одинокий, наивный борец с общественным злом курортный врач Штокман говорил те же слова, но зазвучали они с интонациями другими, чем у Станиславского.
Как и в прошлом, когда Качалов дублировал Станиславского — Вершинина в «Трех сестрах», так и теперь возник новый, отличный образ. Однако напрасно доискиваться, какой из двух Штокманов оказался вернее, ближе к замыслу драматурга. И тот и другой создались не случайно, не по прихоти их творцов. Пьеса Ибсена — общий первоисточник. А то, что видение и трактовка обоих артистов были различны, лишь обогащало текст пьесы.
Обличительная речь Штокмана — Качалова захватывала благородным гражданским пафосом.
— Все наши духовные жизненные источники отравлены, вся наша общественная жизнь зиждется на зараженной ложью почве! — восклицает борец за правду. — Истина и свобода имеют в обществе массу врагов, оно даже состоит сплошь из врагов. Прежде всего к их числу принадлежат местные заправилы, но я не хочу тратить даром слова, говоря о кучке хилых умников, плетущихся позади. Эти ветхие остатки отживающего мировоззрения сами сведут себя на нет.