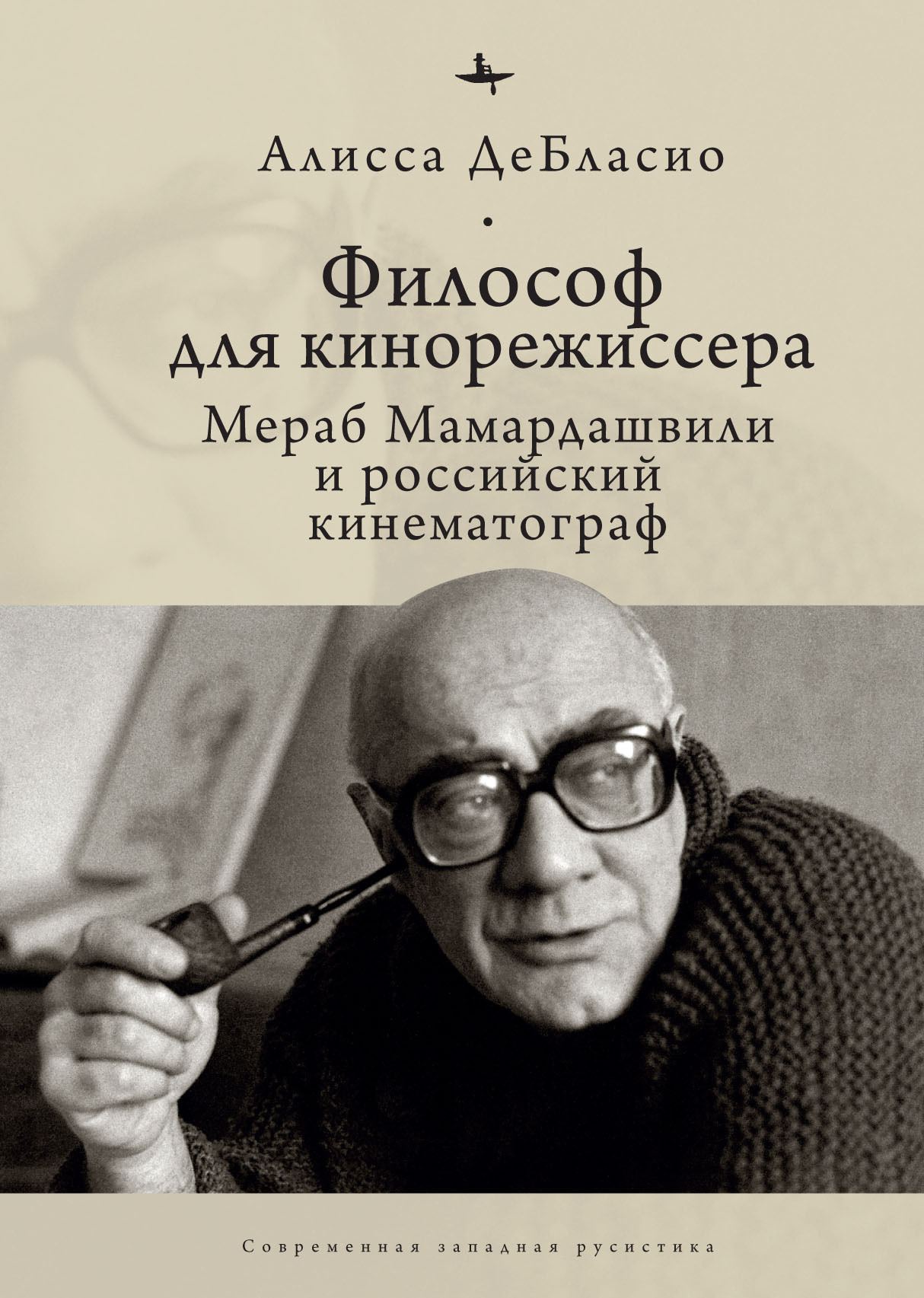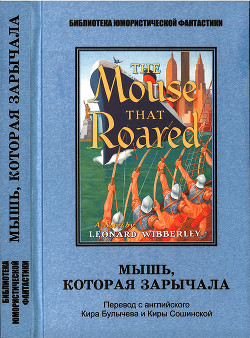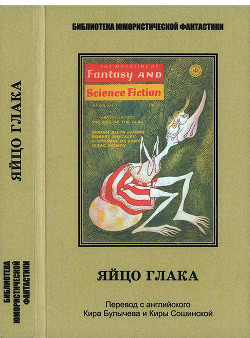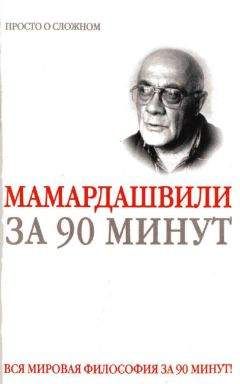смириться. Он признает, что, хотя его жизнь не была идеальной, всегда была надежда сделать ее лучше. Вещи больше не кажутся «чернее и чернее». Дело не в том, что он хочет жить; он хочет стать лучше, пока он еще жив. Осознав это, «он искал своего прежнего привычного страха смерти и не находил его. <…> Вместо смерти был свет» [Там же: 107]. Преобразив своего героя, Толстой переносит свет, который Иван Ильич видел в начале жизни, в ее конец. С последними вздохами Иван Ильич в своем нынешнем состоянии видит свет, который прежде являлся ему в воспоминаниях; теперь он чувствует дарующую преображение и раскаяние силу того, о чем Толстой позже скажет в «Пути жизни»: «Особенно же ценна последняя минута умирания» [Толстой 1936: 464] [92]. Василий Брехунов, эгоистичный помещик из рассказа «Хозяин и работник» (1895), видит в небе тот же самый свет – и это заставляет его изменить весь ход своего поведения и пожертвовать жизнью, чтобы его работник пережил метель, согревшись теплом его умирающего тела.
Абстрактного переживания смерти для Толстого было недостаточно, чтобы начать этические размышления: для этого необходимо непосредственное физическое столкновение со смертью. Лишь поверив, что он замерзнет, и услышав слова работника «поми-ми-мираю я», Брехунов понимает, что неправильно себя вел, и посвящает свои последние минуты тому, чтобы изменить ход своей жизни. Необходимое для Толстого требование, чтобы герои приобрели не абстрактный, а личный и ощутимый опыт смерти, соблюдается и в самой известной из написанных им предсмертных сцен. Раненый Андрей Болконский, лежа на поле битвы, не видит ничего, кроме неба над головой и бесконечного серого пространства, уходящего в бесконечность, вокруг себя [Толстой 19796: 366-367]. Подобно Ивану Ильичу и Брехунову, князь Андрей в «Войне и мире» (1867) испытывает полный разрыв со своим прежним «я», как это описано Л. Шестовым [Шестов 1920:123]. Но метафора бесконечного неба означает также принятие им бесконечности. «Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его» [Толстой 19796: 354], – удивляется князь Андрей. Прикосновение смерти позволяет ему задуматься о своей смертности и мысленно выйти за ее пределы, так, что перед ним раскрывается возможность «истинной жизни», прежде ему неведомая.
В последних абзацах «Исповеди» Толстой вспоминает преображающее сновидение, сходное с возрождением князя Андрея на поле битвы. Ему снится, что он висит над пропастью на помочах: «Бесконечность внизу отталкивает и ужасает меня; бесконечность вверху притягивает и утверждает меня» [Толстой 1983: 164]. Какой-то голос призывает его смотреть на бесконечность вверху; в головах же у него оказывается столб, а от столба «проведена петля как-то очень хитро и вместе просто, и если лежишь на этой петле серединой тела и смотришь вверх, то даже и вопроса не может быть о падении» [Там же: 165]. Для Толстого вера была единственным выходом из парализующего парадокса, в котором он пребывал большую часть своей жизни, застряв между двумя противоположными подходами к бесконечности. Поддаться бесконечности внизу означало бояться смерти и цепляться за свое «я»; охватить бесконечность вверху – принять смерть как опору, на которой держится смысл жизни [93]. «Что такое я?» – спрашивает Толстой в «Исповеди» и отвечает: «Часть бесконечного» [Толстой 1983: 142].
Готовясь к прочтению «Мишени» Зельдовича, также важно помнить, какое значение Толстой придавал активному, живому нравственному движению. Притом что движение было важной составной частью его этической философии, он подчеркивал, что важна не скорость, с которой человек приходит к правильной смерти, а сам факт того, что он достигает ее. И в самом деле, темп или временная длительность не входит в число переменных величин, с помощью которых производится количественная оценка ценности жизни: «не стану же я думать, что тот, кто шел медленно, тот больше живет, чем тот, кто шел скоро» [Толстой 1936:451]. Более того, в книге «О жизни» Толстой заявляет, что для человека, живущего «истинной жизнью», время не существует, поскольку такой человек руководствуется лишь идеалами, на которые равняются его действия, а не земными параметрами применения этих идеалов в реальной жизни. Подобно тому как индивидуальная жизнь движется к совершенству, обусловленному смертью, «человеческая жизнь в своей совокупности двигается и не может не придвигаться к тому вечному идеалу совершенства» [Толстой 1956:205].
В книгах «О жизни» и «Исповедь», а также в других произведениях Толстой постоянно характеризовал смысл жизни как непрерывное движение от зла к добру. Иными словами, «истинная жизнь» – это движение. Убежденность Ивана Ильича в том, что он прожил свою жизнь хорошо, была ошибочной: «Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его» [Толстой 1982: 106]. Даже медленное, даже затрудненное продвижение по жизненному пути лучше, чем его отсутствие. «Впрочем, зачем же говорить, надо сделать» [Там же: 107], – думает Иван Ильич за несколько секунд до смерти. Как указывает Дж. Сканлан, в философии Толстого «человек, далекий от нравственного идеала, но стремящийся исправиться, нравственно выше того, кто ближе к идеалу, но не делает попыток самосовершенствования» [Scanlan 2006: 9]. «Жизнь может быть благом только тогда, когда смерть не представляется злом», – пишет Толстой в «Круге чтения» под датой 12 мая [Толстой 1957: 321]. Как и смысл, движение тоже математически определяется смертью. Как бы иронично это ни звучало, без смерти для Толстого не существовало движения в жизни.
Также важно помнить, что в формуле Толстого V не связана с продолжительностью жизни. Если бы мы ошибочно сочли более длинную жизнь более ценной – такое предположение содержит приведенная выше цитата из «Пути жизни», – то герои фильма Зельдовича попали бы в толстовскую «мишень». Располагая возможностями вечной молодости, их жизнь с каждым десятилетием приобретала бы все больше смысла. Однако вместо того, чтобы искать смысл в «совершенном равновесии» веры и бесконечности, о котором говорил Толстой в «Исповеди», персонажи Зельдовича изначально противостоят его философской позиции, стремясь сохранить свое «я» через вечную молодость [94]. Именно исходя из этого, я рассматриваю «Мишень» как кинематографическое исследование философской позиции по отношению к смерти, которой Толстой придерживался в последней трети своей жизни. Рассматривая фильм сквозь призму толстовских идей, а героев «Мишени» – как предполагаемых оппонентов поздних взглядов Толстого на смерть, мы видим, как их катастрофические судьбы подтверждают несостоятельность антитолстовской утопии, сконструированной в фильме, а также убежденность Толстого в том, что мир без смерти – это мир без смысла.
Мамардашвили о бесконечном
Слово «бесконечный» и его производные были