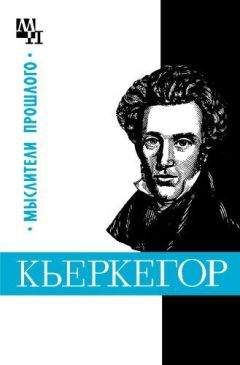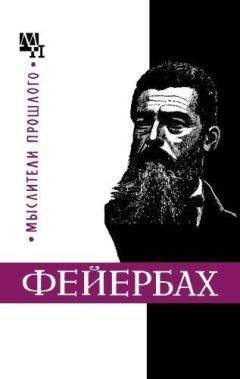Политические убеждения Кьеркегора не были основаны на сколько-нибудь серьезном изучении истории человечества и рациональном познании закономерностей и движущих сил общественного развития. Он руководствовался исключительно эмоциональными антидемократическими побуждениями, неотделимыми от его религиозных воззрений. «В истории Кьеркегор не много понимал,— характеризует его копенгагенский теолог С. Хольм,— как в методологическом, так и в культурно-социологическом смысле» (59, 6). Такого же мнения по праву придерживается и Г. Блекхем: у Кьеркегора «отсутствовали интерес к адекватному анализу и понимание социальной ситуации...» (35, 21). «Может ли служить исторический исходный пункт отправным для вечного сознания? Как может такой исходный пункт представлять нечто большее, чем исторический интерес? Можно ли обосновать вечное блаженство на историческом познании?» — риторически вопрошает Кьеркегор в эпиграфе к своим «Философским крохам» (6, 10). Он не только не стремится к постижению объективных законов истории, но при своей трактовке свободы воли и вторичности социального по отношению к индивидуальному требует отказа от исторической объективности, считая ее совершенно недопустимой. «Если для Кьеркегора, — правильно замечает по этому поводу X. Радемахер, — было уже нехристианским при рассмотрении природы теряться в подходе к ней как к миру объектов, обладающему самостоятельной реальностью, то уж заведомо нехристиански-языческим было бы принимать за объект еще и историю» (88, 116). Философский фидеизм не терпит научной объективности вообще, научного понимания истории в особенности. Между ними лежит непроходимая пропасть. Сфера экзистенции, арена человеческой деятельности, неподвластна объективной закономерности и непостижима для научного познания. А ведь все это писалось в те самые годы, когда окончательно сложилось подлинно научное, материалистическое понимание истории. Впрочем, Кьеркегору ничего не было известно о теоретических достижениях и основанной на них революционной практике создателей марксизма. Нетрудно представить, какую злобу и негодование вызвало бы его знакомство с их «чудовищным», «дьявольским», с его точки зрения, учением. Неотомист Дж. Коллинз, сопоставляя критику гегелевского учения о государстве Кьеркегором и Марксом, замечает, что два марксистских положения были бы неприемлемы для Кьеркегора. Во-первых, утверждение, что «социально-экономическое благоденствие является абсолютным интересом человека» и, во-вторых, что государство «должно быть в свое время использовано как инструмент для обеспечения триумфа бесклассового общества» (41, 186). Не говоря уже о том, что для основоположников научного коммунизма экономическое благоденствие вовсе не является конечной самоцелью революционного преобразования мира, а лишь необходимым средством и непременным условием совершенствования человеческого бытия и сознания, едва ли Коллинзу удалось бы назвать хотя бы одно положение марксистского учения о происхождении, сущности, формах и функциях государства, которое было бы приемлемым для Кьеркегора. Взгляды их просто несоизмеримы.
В противовес единению и политической организации передовых людей в борьбе за жизненные интересы народных масс, требующих коренного преобразования существующего общества, Кьеркегор призывал к единению изолированной личности с богом. «Я борюсь за вечность, заботясь о спасении моей души» (6, 34, 305). «Спасение» для христианского вероучения индивидуалистично, потусторонне, иррационалистично. Оно не требует ни социальной борьбы, ни сплочения единомышленников; не направлено на земные блага; не нуждается ни в каком теоретическом обосновании. Человеческое достоинство определяется не общественными заслугами, не вкладом в развитие материальной и духовной культуры, не социально значимыми достижениями, а отрешением от всего бренного, исторического, умением «осложнять жизнь и отягощать бремя» (7, 366) во искупление греха и в устремлении к вечному блаженству. «Ибо величие человека, — по словам Кьеркегора, — зависит единственно и исключительно от энергии его собственного отношения к богу... Поистине велик он не в момент блестящего проявления вовне... а в тот момент, когда он благодаря самому себе и перед самим собой погружается в глубину сознания своей греховности» (6, 11—12, 113). Курс религиозной этики не в самоутверждении личности в ее единстве с общественным, а в ее разрыве с общим во имя единства с абсолютным, божественным. «Единичный выше всеобщего, единичный... определяет свое отношение к общему через свое отношение к абсолютному, а не свое отношение к абсолютному через свое отношение к общему» (6, 4, 76).
Таков политический эквивалент кьеркегоровского фидеизма. Мистическая иллюзия непроницаемым туманом застилает социальную действительность. Трудно найти более яркую иллюстрацию к ленинским словам: «Идея бога всегда усыпляла и притупляла „социальные чувства“, подменяя живое мертвечиной, будучи всегда идеей рабства (худшего, безысходного рабства). Никогда идея бога не „связывала личность с обществом“, а всегда связывала угнетенные классы верой в божественность угнетателей» (3, 48, 232). Эти слова как бы направлены прямо против Кьеркегора, фидеизм которого явно перерастает в политический консерватизм, равнодушный к реальным судьбам общественного бытия, определяющего человеческое существование.
* * *
Последний год жизни Кьеркегора — это год его бунта, мятежа, восстания. Он всегда, по самой природе своей, был беспокойным, неуравновешенным, взвинченным, мятущимся. Мятущимся, но не мятежным. А теперь этот закоренелый политический консерватор восстал, возмутив спокойствие, подняв бурю «в этой проституированной резиденции мещанства, моем милом Копенгагене» (7, 343). Непосредственным поводом для восстания послужила кончина в 1854 году главы датской протестантской церкви епископа Мюнстера, друга и духовного наставника Кьеркегора-отца. Пока Мюнстер был жив, Кьеркегор сдерживал себя, но, когда его преемник епископ Мартенсен выступил с восторженной апологией своего предшественника как «свидетеля Христа», Кьеркегор взбунтовался и открыл огонь. Он один, «единичный», восстал против самой могущественной духовной силы своего времени, безраздельно владевшей умами и сердцами его сограждан, восстал против господствующей церкви. «Рядом статей в этой газете („Отечество“.— Б. Б.) я открыл теперь, говоря военным языком, живой огонь, выступив против официального христианства и тем самым против духовенства в нашей стране» (6, 34, 64). За полгода на страницах газеты была опубликована 21 воинственная антиклерикальная статья Кьеркегора, а с 24 мая 1855 года начал выходить в свет собственный листок, издаваемый Кьеркегором на последние оставшиеся от отцовского наследства деньги, «Мгновение», всецело посвященный начатой им в «Отечестве» кампании.