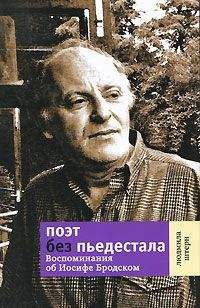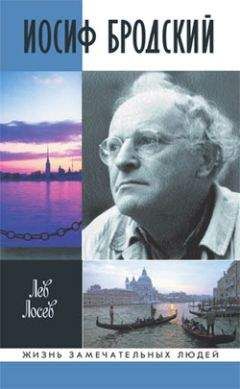В такой, не побоюсь сказать, соборной русской атмосфере и рождались его лучшие деревенские стихи: «К северному краю», «Дом тучами придавлен до земли…», «Деревья в моем окне, в деревянном окне…», «Северная почта», «Колыбельная» и, конечно же, «Песня», и, конечно же, «В деревне Бог живет не по углам…».
Обычно позднего Бродского узнают по первым же строкам: нейтральная интонация, монотонный стих, отсылка к английским классикам. А к кому отошлет дотошный исследователь творчества поэта его почти фольклорную песню?
Пришел сон из семи сел.
Пришла лень из семи деревень.
Собирались лечь, да простыла печь.
Окна смотрят на север.
Сторожит у ручья скирда ничья,
И большак развезло, хоть бери весло.
Уронил подсолнух башку на стебель.
То ли дождь идет, то ли дева ждет.
Запрягай коней, да поедем к ней.
Невеликий труд бросить камень в пруд.
Подопьем, на шелку постелим.
Отчего молчишь и как сыч глядишь?
Иль зубчат забор, как еловый бор,
За которым стоит терем?
Запрягай коня да вези меня.
Там не терем стоит, а сосновый скит.
И цветет вокруг монастырский луг.
Ни амбаров, ни изб, ни гумен.
Не раздумал пока, запрягай гнедка.
Всем хорош монастырь, да с лица — пустырь
И отец игумен, как есть безумен.
Клюевским староверием, северными скитами, шергинскими сказами веет от этой народной песни Бродского.
Уверен, именно придя к своей «деревенской поэзии», он задумал совершенно искреннюю попытку опубликоваться в местной коношской печати. Журналист Альберт Забалуев из коношского «Призыва» вспоминает: «Однажды в кабинет вошел рыжеватый юноша в городских джинсах, видно, что не здешний.
— Вы можете напечатать стихи тунеядца? — просто, без иронии спросил он.
— Да, если они отвечают газетным нормам.
Газетным нормам стихотворение „Тракторы на рассвете“ (а именно это он принес) отвечало — короткое, казалось бы, на производственную тематику… Через неделю Иосиф снова пришел в редакцию, принес второе стихотворение — „Осеннее“. Я прочитал его и по своей наивности… сделал такую оценку:
— Этот текст уступает первому. В том больше динамики, емче образность…
— Не скажите, — перебил он меня. — Сейчас время обеда. У тебя где трапеза? Дома? Пойдем, угостишь меня чайком. Заодно по дороге я тебе и мозги вправлю…
Сравнивая два предложенных газете текста, он говорил, что образность, даже самая удачная, не самоцель, она легко и как бы из глубины должна вплетаться в ткань стиха…»
Не так уж и нужна была ему публикация в районной газете, которая вскоре состоялась. Очевидно, став уже своим в деревне, он хотел пообщаться и с коношскими газетчиками, взглянуть на журналистскую глубинку живьем. Кстати, как видно из воспоминаний еще одного коношанина, Владимира Черномордика, в совхозе «особых притеснений ему не чинили, и условия для творческой работы у него были… Уже в то время его здоровье было неважное, и его вклад в продовольственную программу был весьма невелик… Помог тогдашний начальник КБО Н. П. Милютин. Так Бродский стал разъездным фотокорреспондентом…».
Впрочем, стихи на производственную тематику вполне вписываются в его тогдашнее увлечение Робертом Фростом:
Топорщилось зерно под бороной,
И двигатель окрестность оглашал.
Пилот меж туч закручивал свой почерк.
Лицом в поля, к движению спиной,
Я сеялку собою украшал,
припудренный землицею как Моцарт.
Но меня не его производственные стихи интересуют, «Тракторы на рассвете» или же «А. Буров — тракторист и я…», хотя и они отнюдь не унижают поэта, не похожи на заказные стихи в угоду начальству. Меня больше интересуют движение поэта к народу, к людям, его окружавшим, ощущение слиянности с ними. То, о чем ему когда-то рассказывала Анна Ахматова и чему он не очень-то верил: «Я была тогда с моим народом, / там, где мой народ, к несчастью, был…» Сейчас Иосиф Бродский также оказался вместе со своим народом и почувствовал его своим. И как же взбесил этот момент народности всё его элитарное окружение! А он, не стесняясь, признавался позже и в американских интервью, и итальянскому журналисту Джованни Буттафава, и Волкову, и другим в постигшем его в архангельской ссылке чувстве сопричастности с русским народом: «Возникло что-то более важное, более глубинное, что наложило отпечаток на всю мою жизнь: выходишь рано, в шесть утра, в поле на работу, в час, когда восходит солнце, и чувствуешь, что так же поступают миллионы и миллионы человеческих существ. И тогда ты постигаешь смысл народной жизни, смысл, я бы сказал, человеческой солидарности. Если бы меня не арестовали и не осудили, я бы не имел такого опыта, я был бы в чем-то беднее. В каком-то смысле мне повезло…»
Вот с таким колоссальным ощущением своей принадлежности к русскому народу писалось в ссылке стихотворение «Народ», так поразившее Анну Ахматову. В мае 1965 года она написала в дневнике: «Мне он прочел „Гимн Народу“. Или я ничего не понимаю, или это гениально как стихи, а в смысле пути нравственного это то, о чем говорил Достоевский в „Мертвом доме“: ни тени озлобления или высокомерия, бояться которых велит Федор Михайлович».
Может быть, постепенно, от стихов о северной природе, от стихов о своем северном смирении с жизнью, от стихов, воспевающих крестьянскую избу и крестьянский труд, он и пришел к своему «величию замысла», к стихотворению «Народ».
Без всякой злобы думаю: если бы это стихотворение было посвящено не чуждому поэту еврейскому народу, оно бы уже вошло во все хрестоматии, но поэт посвятил его другому народу по велению своей созревшей до этого состояния души. Ахматова, как мы видим, признала это стихотворение гениальным, пафосно переназвав его при этом (и название это еще раз было повторено в ее дневниках после сердечного приступа, случившегося с ней: «Хоть бы Бродский приехал и опять прочел мне „Гимн Народу“»). Давний друг поэта Лев Лосев в своей филологической статье «О любви Ахматовой к „Народу“…» совершенно точно оценил это стихотворение как продолжение ахматовской традиции любви к своему народу, своей стране и своему языку, как стихотворение «великого замысла». Почти все остальные тогдашние приятели Бродского, от Анатолия Наймана до переводчика Андрея Сергеева, посчитали стихотворение лишь «паровозиком», написанным в надежде на снисхождение властей. Как же мелко они ценили самого поэта! И зачем нужен был этот «паровозик» Иосифу Бродскому в декабре 1964 года, когда не было еще никаких надежд на досрочное освобождение и тем более на публикацию в какой-нибудь, даже районной печати? Да и так ли наши власти любили народность в стихах того же Николая Рубцова или Ярослава Смелякова? Никогда народность не была в чести у партийного начальства. Ее боялись не меньше, чем диссидентства. Да и стала бы больная Ахматова хвататься как за лекарство за заказное конформистское стихотворение?
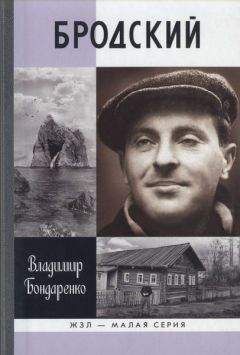

![Бенгт Янгфельдт - Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском [с иллюстрациями]](https://cdn.my-library.info/books/42646/42646.jpg)