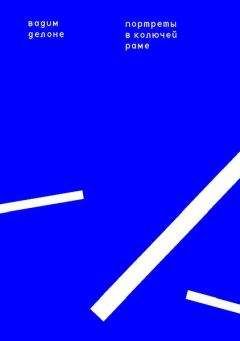– Сребреников, – поправлял я его.
– Ну, по-нашему 30 рублей. Такого человека. Сына Божьего распяли. А я еще за себя убиваюсь – меня за 45 рублей, да и те краденые, на пять лет засадили. И мне уж кажется – куда несправедливей.
– Как это так, Мочалкин, неужели всего за 45 рублей, это ж вообще не деньги? – спросил я, впрочем, ничему уже не удивляясь.
– Да кроме того, еще и лихость проявил, стыдно сказать. Я в техникуме учился, у нас в поселке, кроме техникума и двух заводишков, ничего в округе. Ну привезут кино раз в неделю, и то муру какую-то. Мы с ребятами так и тыкались из угла в угол, может, и были бы так, непутевщиной, но у одного из наших роман Дюма был «Три мушкетера». Ты-то, небось, читал, но, говорят, и у вас в столице дефицит.
– Дефицит, – усмехнулся я… Думал ли Дюма, что «столько лет спустя», в самой передовой стране мира за его книгами в очередь выстраиваться будут, как за колбасой или пивом.
– А у нас одна книжка, истрепанная такая была, – продолжал, приободрившись, Мочалкин. – С этого Дюма все и началось… Мы к своим девчонкам из техникума шпану из ремесленных училищ и со строек не подпускали – те пьяные приходили, с ножами, так, покуражиться и хором какую-нибудь из наших опозорить норовили. Вот видишь, – Мочалкин задрал робу. Все тело было в шрамах. – Но сами мы их не трогали – малолетки. Мы цветы им даже носили, правда, втихую, чтобы шпана не засмеяла. Они ночами над цветами этими плакали, поливали, в общем, цветы слезами, чтобы не вяли… Ну а нам все же хотелось показать, что мы хоть их и оберегаем, а сами вроде мужики самостоятельные и лихие. К потаскушкам местным мы не ходили, те за бутылку портвейна на все согласны. Зато были у нас в поселке три девушки, не то что бляди, но погулять любили. Они тоже в общежитии жили, только у каждой отдельная комната. Одна секретаршей у начальника завода работала, другая – по музыкальной части где-то в клубе преподавала, третья в наш поселок училкой по математике была прислана. Короче, интеллигентные девицы, шпану нашу даже близко к себе не подпускали, только заезжие инженера с ними гуляли. Ну и накатали мы им письмо – еще раз всех трех мушкетеров перечитали и от себя добавили, что смогли, так втроем и расписались. Они нам ответ на какой-то голубой бумаге прислали – заходите, дескать, виконты, познакомимся. Ну, мы пособрали мелочь, на три бутылки вина хватило, да еще у одного приятеля эстамп взяли с портретом Хемингуэя. Хемингуэя мы, правда, не читали, негде достать, но эстамп хороший – в бороде такой мужик и в заграничном свитере. Друг этот эстамп под матрацем прятал, говорил, что сам Сикейрос рисовал или еще кто-то из знаменитых коммунистов, потому, мол, в Москве выбросили партию портретов. А у него знакомый был один в Москве, расщедрился, на совершеннолетие прислал как подарок. Еле мы этот эстамп у него вымолили. Долго он упирался, а потом говорит: «Эх, для такого случая и Хемингуэя не жалко!» – и к стенке отвернулся. Мы впятером в нашей комнате в общежитии жили. – «Желаю, – говорит, – счастливого плавания!» Ну мы и поплыли. Старшая, Лизка, та, что секретаршей у директора работала, пышная такая и в болгарской кофте с вышивкой, дверь со смешком отворила: «Мы думали, все виконты с усами, а у вас что-то незаметно». – «Зато борода есть! – сказал я и сунул ей эстамп. – Может, пригодится, стенку украсить». – «Девочки, так это ж Хемингуэй! Вот так подарок!» Выпили вина, но Лизка все лезла ехидничать: «Что ж вы, то про Дюма, то с Хемингуэем приходите, а сами дешевую бормотуху пьете!» Я говорю: «Не знали, что вы предпочитаете». – «А к нам в продмаг на прошлой неделе коньяк завезли! – смеется Лизка. – Наши-то не берут, дорого и непривычно, а вот инженеры приезжали тюменские, сразу по бутылке взяли и нас угощали. Очень понравилось инженерам, говорят, не хуже французского». – «Брось ты, Лизка! – вмешалась математичка. – Откуда у пацанов деньги на коньяк, что ты над ними измываешься!» Меня не Лизка даже взбесила, а то, что училка нас пацанами обозвала. «Сейчас будет коньяк», – говорю. Дружки за мной поднялись и в дверь. «Что будем делать, Мочалкин?» – спрашивают. – «Двинем к тете Клаве». – «Как же, даст она тебе! Мы ей уже три рубля должны, да и продмаг закрыт». – «Тогда, – говорю, – запоры взломаем, а утром всех ребят обежим, наодолжаем и деньги вернем. Может, выкрутимся». С засовами возились долго, но уж больно гордость нас заедала, чуть не зубами грызли, ну как граф Монте-Кристо стенку в камере. Забрали четыре бутылки коньяка и кулек конфет. И назад вернулись. Красотки наши так и обомлели. «Вот это, – говорят, – виконты!» Ну приласкали, как полагается, а наутро где-то вина раздобыли. Мы до двух часов дня проспали. В два часа нас и взяли. Кто-то видел со стороны, как мы железо кромсали. Я все дело на себя взял. Дружкам моим по три года назначили, мне – пять. А убыток, как ни крутили больше приписать, всего 45 рублей получился. Клавка-продавщица, хоть и материлась всегда и в долг неохотно давала, но нас не стала топить, даже про то, что три рубля мы ей так и не отдали, на суде ничего не показала. Лизку-секретаршу директор отстоял, математичку из учителей за разврат выгнали, музыкантшу тоже. А Хемингуэй так и висит в Лизкиной комнате… Эх, политик, в первый раз я тогда нег любви вкусил, как говорит Дюма, теперь уж больше не придется!
– Отчего ж не придется? – тревожно спросил я. – Люди и по двадцать лет сидели, и то ничего.
– Не в этом дело, политик, сам знаю, не мне одному худо. Но мне конец сегодня!
– Как так, конец? У тебя конец срока через три года, что ты вдруг в отчаяние такое впал?
– Да я не о конце срока говорю… Как мне быть, политик, ты говорил, по закону Божескому так получается, что самоубийство – грех, даже если в лагере?
– Так, – сказал я несколько неуверенно.
– Ну а если, кроме своей смерти, еще и другого человека убить, это как? Да еще такого, которому по закону должен?
– Это уж совсем ни к чему, – бессмысленно произнес я пустые слова и ужаснулся от того, насколько и вправду слова бывают совершенно пустыми, вроде консервной банки, в которой мы заваривали тайком чай. – В чем дело, Мочалкин? Скажи, как джентльмен джентльмену!
– Да понимаешь, политик, блатным я себя проиграл, и срок через три часа. Если попросят крови налить, то я им налью, я знаю, как порезаться. Но могут приказать шестеркой быть или опедерастят, а это, сам знаешь, – конец. Что же мне делать? Я и веревку для себя, и нож для них раздобыл. Что лучше, что посоветуешь?
– Советую, – сказал я, – три часа подождать. Там видно будет. С кем ты играл?
– С Конопатым.
«Совсем плохо», – подумал я.
– Ну и на что, на представку?
– Что такое, на представку? – вылупил на меня глаза Мочалкин.