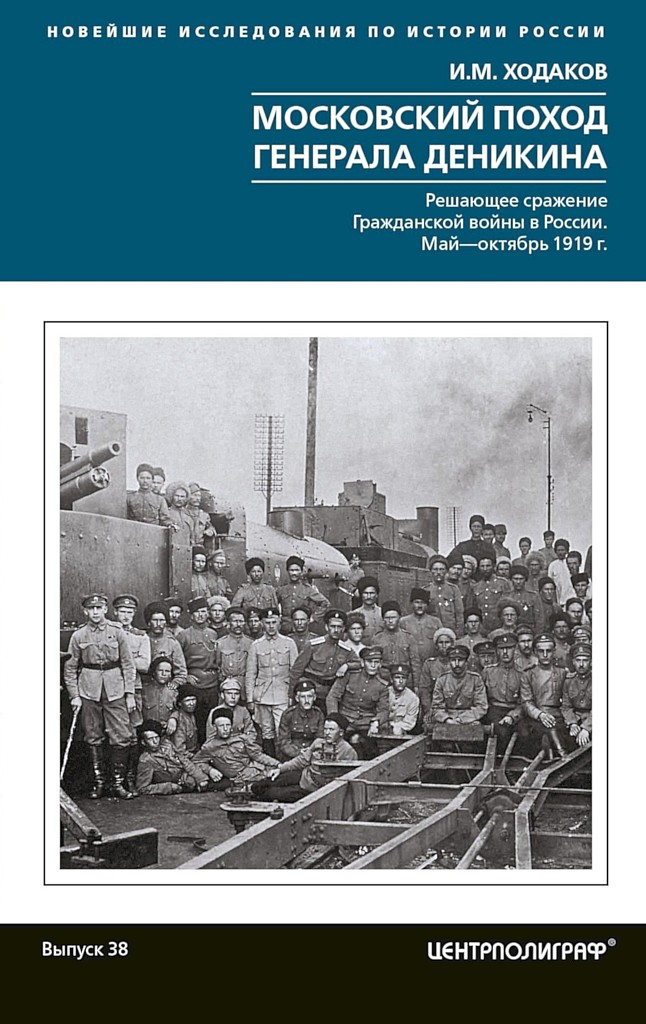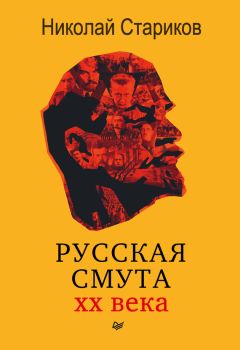к земле, лег и его брат Павлик. Он точно почувствовал взгляд своего командира, поднял голову, сразу встал на ноги и вытянулся. А сам начал краснеть, краснеть, и слезы выступили у него из глаз.
Вечером, устроившись на ночлег, Туркул отдыхал в хате на походной койке; вдруг раздался легкий стук в дверь и голос:
– Господин полковник, разрешите войти?
– Войдите.
Вошел Павлик, встал у дверей по-солдатски, молчит.
– Тебе, Павлик, что?
Он как-то встряхнулся и уже вовсе не по-солдатски, а застенчиво, по-домашнему сказал:
– Тося, даю тебе честное слово, я никогда больше не лягу в огне.
Тогда, в описанном Туркулом боевом эпизоде, стоять под огнем никакой необходимости не было, тем более неопытному мальчишке. В любой регулярной армии в подобной ситуации и офицеры, и нижние чины штаба были бы отведены в укрытия. Но Туркул подобного приказания не отдал. Случаи, когда офицеры и даже генералы, возглавлявшие крупные воинские соединения, без должной необходимости выходили на линию огня, типичны для Белого движения (вспомним описанную владыкой Вениамином «прогулку» под пулями, устроенную Врангелем на крымских позициях). Да, такие действия свидетельствовали о силе духа белогвардейцев, и вид старших начальников под огнем укреплял малодушных. Но какого духа? Христова ли? Когда офицеры и генералы своим личным примером укрепляли дух войск, то да – Христова. Но были и иные мотивы у некоторых белогвардейцев, заставлявшие их порой без всякой необходимости рисковать жизнью. Передо мной стихотворение капитана-марковца Большакова «Рыцари смерти»:
Смерть не страшна, смерть не безобразна.
Она прекрасная дама,
которой посвящено служение,
Которой должен быть достоин рыцарь,
И марковцы достойны своей дамы…
Они умирают красиво…
В этих строках подчеркнуто, что белые служат «прекрасной даме» – смерти.
Вновь и вновь скажу, что подобные, далекие от христианских, идеалы были свойственны отнюдь не всем офицерам – тот же Врангель, не раз лично водивший войска в атаку, не искал смерти и не видел в ней образ «прекрасной дамы». Но все же есть основания говорить о существовании среди некоторой части офицеров культа смерти.
Это противоречит православному миропониманию, выражающемуся в том, что человек должен нести свой крест до конца, и только Господь волен решать, когда путь нашего земного странствия завершится. Сами же мы не имеем права лишать себя жизни, каким бы образом ее обстоятельства ни складывались, тем более создавать поэтические произведения, культивирующие смерть. Да, воин-христианин, если потребуется, должен быть готов умереть, но он не должен искать смерти… Культ смерти – это ведь, в сущности, антиценность, не имеющая ничего общего с Православием.
Многие же белогвардейские офицеры, особенно в тяжкие дни неудач и эмиграции, сводили счеты с жизнью.
…Глаза слипались, а в тепло натопленной избе просто закрывались. Полковник Туркул прошел в свой угол, на ходу скидывая с плеч тяжелую бурку, и тихонько, стараясь не скрипеть белыми от снега сапогами, перешагивая через спящих вповалку своих штабистов. Их мерный храп и посапывание успокаивали. Из-за шаткого скрипучего стола поднялся адъютант капитан Ковалевский, молча поклонился, бросил быстрый взгляд на Туркула и тут же отвел глаза. Полковник прошел в свой угол и, не снимая сапог, рухнул на кровать, закрыл глаза, все тело стало как деревянное, казалось, еще пару секунд – и сон овладеет всем его существом. Но сон почему-то не шел, перед мысленным взором стояло мертвенно-бледное лицо Ковалевского и еще капитана Рипке, командира бронепоезда «Дроздовец». На вокзале, через который Туркул возвращался в штаб, капитан сидел в дальнем углу, совершенно спокойный и бледный, с пустыми глазами. Полковнику вдруг показалось, что Рипке нестерпимо холодно…
Пролежав так минут двадцать, Туркул открыл глаза, посмотрел на капитана, и ему вдруг сделалось жутко. Он не боялся смерти, в бою – всегда впереди. Но здесь…
Бледное, почти белое лицо, какое-то ледяное нечеловеческое спокойствие, огарок свечи, едва освещающий безжизненные, потухшие глаза адъютанта.
Туркул поднялся и тихонько подошел к столу. Наган, скомканная пачка писем, одно из них на имя Туркула. Он протянул руку, медленно взял письмо, распечатал, начал читать: «Не могу перенести наших неудач. Кончаю с собой».
Ковалевский резко поднялся. Их взгляды встретились.
– Господин полковник, – глухим шепотом проговорил адъютант, – вы не имеете права читать моих писем.
– Что с вами, Адриан Семенович? – шепотом ответил Туркул. – Ваших я не читаю, а это на мое имя.
Они держали друг друга за руки, стояла полная тишина, прерываемая храпом штабистов и свистом ледяного ветра, бросавшего в окна комья мокрого и наметавшего глубокие сугробы снега. Туркул сжал руки Ковалевского, повел его в свой угол.
– Не смеешь стреляться, это слабость, прошу тебя жить.
Он говорил отрывочно, шепотом, судорожно пытаясь подобрать нужные слова.
Ковалевский вдруг зарыдал, припав к плечу командира. Он обещал жить и застрелился спустя шесть лет. Он уехал в Америку, жил у сестры в полном довольстве. В предсмертной записке были слова: «Без России жить не могу». Тогда ему было чуть более тридцати. А Рипке застрелился через день, не выдержав потери бронепоездов – их нельзя было эвакуировать из-за взорванных железнодорожных полотен. Уже в Болгарии свели счеты с жизнью боевые соратники Туркула: генерал Манштейн и полковник Петерс. Последний – храбрейший офицер, не раз был ранен. В изгнании он влюбился и был необыкновенно счастлив. Но его подруга тяжело заболела и умерла. Петерс страшно и молча переживал ее потерю. В конце концов он застрелился. Вспоминая о Петерсе, Туркул назвал причину самоубийства: «Он потерял свой гений; он потерял войну и любовь». К этому, наверное, стоит добавить: Петере потерял Родину и Веру.
Возможно, заповедь «не сотвори себе кумира» (см.: Исх. 20,4) относится и к Родине. Ведь для православного христианина Отечество – понятие не только земное, но и духовное, для него Родина – там, где стоят православные храмы, раздается звон благовеста и служится Божественная литургия. И потом, многие офицеры уже в эмиграции (да и в самой России) стрелялись от тоски и отчаяния. А это – в высшей степени безблагодатное состояние души, своего рода демоническая одержимость и, конечно, смертный грех. Недаром не раз уже упоминавшийся на страницах этой книги митрополит Вениамин (Федченков) отказывался отслужить панихиду по генералу Каледину – достойнейшему и храбрейшему офицеру, пустившему себе пулю в сердце из-за того, что не мог перенести гибели России. Вспомним и генерала Корнилова, говорившего Деникину во время Ледяного похода: «Если не возьмем Екатеринодара, пущу себе пулю в лоб». Тогда стрелялись и генералы, и офицеры (есть версия, что знаменитый командарм добровольцев (после того как Деникин возглавил