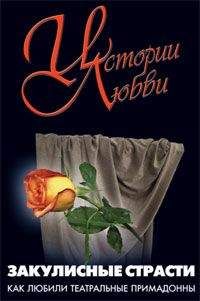Брак же Есенина с Софьей Толстой – брак по расчету – расчета не выдержал. Поэт был откровенно недоволен женитьбой. Ему было скучно, тоскливо, неуютно в атмосфере этой чужой квартиры и в присутствии, в сущности, чужой ему женщины. Есенин Толстую не любил. Постоянно хотел бежать от нее. Впадал в страшные запои. 3 декабря 1925 года, он, сбежав из клиники, где лечился, зашел в квартиру Толстой, собрал свой чемодан и практически убежал из дому, ни с кем не простившись...
А неделю спустя, 28 декабря, в Петербурге, в гостинице «Англетер» покончил с собой...
Это известие застало Дункан в Париже. «Она не произнесла ни одного слова», – вспоминал ее брат Раймонд. Но это не значит, что сердце Айседоры не вздрогнуло. Она не плакала потому, что в жизни ее и так было слишком много горестных потерь! Айседора не знала, что поэт, бывший некогда ее мужем и страстной любовью, встретил смерть в черном шелковом шарфе с красными маками, который подарила она ему еще тогда, в период их сумасбродного, бурного романа...
...Галины Бениславской тоже не было на похоронах Есенина. После его смерти вернуться к новой жизни она так и не смогла. Все лучшее она видела только в прошлом, торопливо передавая бумаге сумбурные и страстные свои воспоминания о поэте и любви к нему. 3 декабря 1926 года она застрелилась на могиле Есенина, на Ваганьковском кладбище. «...Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина, – написала она в предсмертной записке, – ...но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое...» Ее похоронили рядом с Есениным.
...Айседора Дункан прожила после смерти поэта всего два года. В последнее время она перебралась в Ниццу. Здесь же она последний раз танцевала публично: незаконченную симфонию Шуберта, траурный марш из «Гибели богов» и «Смерть Изольды». Шла к закату ее блистательная карьера. Дункан старела.
В последний раз она пыталась «вспыхнуть», увидав молодого русского пианиста по фамилии Серов. То, что это был молодой русский, возможно, напоминало о страсти Айседоры к Есенину, сгоревшей дотла, но все еще мучавшей ее... Сердце танцовщицы забилось. И напрасно. Серов выбрал не ее, а некую американку. Когда он удалялся с ней, Айседора крикнула ему вслед, что покончит самоубийством... Умеренные страсти – не для людей незаурядных. А гениальная женщина хотела быть гениальной всегда и во всем! Ей нужны были великие чувства....
Но молодой русский пианист только вызывающе улыбнулся ей на прощание.
Тогда она пошла к морю. С распростертыми вверх руками она вошла воду. Она шла, погружаясь все глубже и глубже, словно хотела утопить в соленой гигантской чаше все свои слезы, все несчастья, разочарования, боль... Она чуть не утонула. Английский офицер вытащил ее из воды. Айседора усмехнулась горько: «Не правда ли, какая прекрасная сцена для фильма!»...
14 сентября 1927 года она, повинуясь внезапному импульсу, села в гоночную машину и обернула вокруг шеи длинный шарф, не заметив, что конец этого шарфа свешивается позади автомобиля. Когда машина двинулась, конец шарфа оказался запутанным в заднем колесе... Айседора была задушена... Машина еще долго тащила ее бездыханное тело.
Ее похоронили на кладбище Пер-Лашез. На одном из венков было написано: «От сердца России, которая оплакивает Айседору»...
Всю свою жизнь она посвятила искусству танца.
Всю свою жизнь она безумно влюблялась. В искусстве ей сопутствовали успех и слава, и, может быть, поэтому все романы кончались катастрофой?
Беспутная и великая, талантливая и роковая, Айседора Дункан была женщиной, оставившей большой след искусстве, в сердце Сергея Есенина и в памяти своих поклонников...
* * *
...Хотите вспомнить еще раз о любви Есенина и Дункан? Пройдите мимо особняка на Пречистенке, это дом № 20. Очень красивый особняк конца XVIII века. В 1812 году он сгорел, а в 1816 году был восстановлен в стиле ампир. После этого дом не раз переделывался, в 1910 году к обоим торцам дома были сделаны пристройки, а уличный фасад получил пышный псевдоклассический декор с обилием лепнины, в которой повторяются изображения орлов с распростертыми крыльями. Сейчас в этом доме, напоминающем нам о любви и недолгом счастье Поэта и Танцовщицы, учреждение, не имеющее отношение ни к поэзии, ни к танцам – там разместилось Управление по обслуживанию Дипкорпуса...
Анатолий Мариенгоф
«Роман без вранья» (отрывки)
«Держась за руки, мы бежали с Есениным по Кузнецкому Мосту. Вдруг я увидел его (Шаляпина – Авт.). Он стоял около автомобиля. Опять очень хороший костюм, очень мягкая шляпа и какие-то необычайные перчатки. Опять похожий на иностранца... с нижегородскими глазами и бритыми, мягко округляющимися, нашими русапетскими скулами.
Я подумал: «Хорошо, что монументы не старятся!» Так же обгоняющие тыкали в его сторону пальцами, заглядывали под шляпу и шуршали языками:
– Шаляпин.
Я почувствовал, как задрожала от волнения рука Есенина. Расширились зрачки. На желтоватых, матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задыхающимся (от ревности, от зависти, от восторга) голосом:
– Вот так слава!
И тогда, на Кузнецком Мосту, я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной славе Есенин принесет в жертву свою жизнь.
Было и такое.
Несколько месяцев спустя мы катались на автомобиле – Есенин, скульптор Сергей Коненков и я.
Коненков предложил заехать за молодыми Шаляпиными (Федор Иванович тогда уже был за границей). Есенин обрадовался предложению.
Заехали. Есенин усадил на автомобиле рядом с собой некрасивую веснушчатую девочку. Всю дорогу говорил ей ласковые слова и смотрел нежно.
Вечером (вернулись мы усталые и измученные – часов пять летали по ужасным подмосковным дорогам) Есенин сел ко мне на кровать, обнял за шею и прошептал на ухо:
– Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось: Есенин и Шаляпина... А?.. Жениться, что ли?..»
«...Синие воротники рылись в имажинистских изданиях, а мы с Есениным шептались в углу.
– К ним?.. В клуб?.. Вступать?.. Ну их к чертям, не пойду.
– Брось, Анатолий, пойдем... неловко... А потом, все-таки приятно – студенты.
На Бронной, во втором этаже, длинный узкий зал с желтыми стеклами и низким потолком. Человек к человеку – как книга к книге на полке, когда соображаешь: либо втиснешь еще одну, либо не втиснешь. Воротников синих! Воротников!.. И как это на третий год революции локотков на тужурочках не протерли.
На эстраду вышел Есенин. Улыбнулся, сузил веки и, по своей всегдашней манере, выставил вперед завораживающую руку. Она жила у него одной жизнью со стихом, как некий ритмический маятник с жизнью часового механизма.