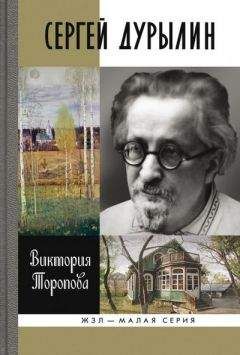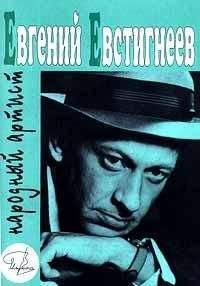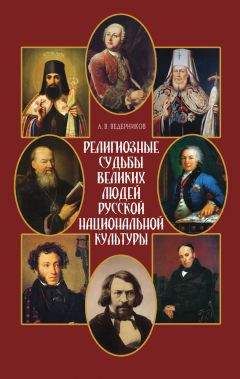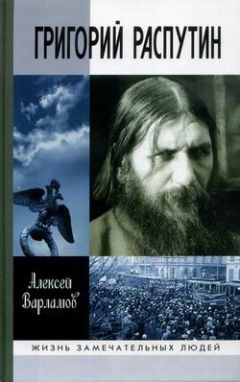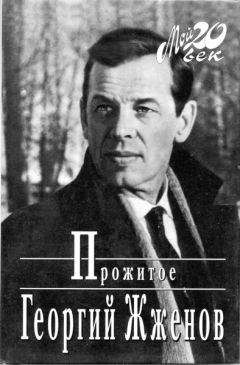Екатерина (Рина) Нерсесова из своего первого заработка прислала пять рублей. Б. Пастернак прислал 25 рублей. Помогали и Нестеровы. Ирина Алексеевна ежемесячно получала от сестры Шуры 20 рублей. Эти деньги уходили на оплату жилья, света, врачей, покупку дров, мыла для стирки, еды… А вот два тулупа смогли купить, когда Дурылин получил гонорар за воспоминания о Толстом. Старый друг Н. Н. Гусев, директор музея Л. Толстого в Москве, заказал ему эти воспоминания для юбилейного сборника. Тулупы «имени Толстого» позволили выходить из дома в морозы. На «свои», полученные из страховой кассы деньги Ирина Алексеевна выписывала газеты для Сергея Николаевича: «Вечернюю Москву» — чтобы узнавал московские новости, и «Известия».
Концы с концами сводить удаётся еле-еле. Дурылина тяготит отсутствие своего регулярного заработка. Гонорары редки и малы. Берётся за любую работу. По заказу университета разрабатывает программы годичных курсов. Гонорар настолько ничтожен, что оскорблённая за Сергея Николаевича Ирина Алексеевна уговаривала совсем от него отказаться. Для какого-то инженера Дурылин пишет о содовых болотах в Сибири. Пишет статьи для «Сибирской энциклопедии». Небольшие статьи и рецензии публикует в местных журналах и газетах. Для постановки в театрах Сибкрая делает инсценировку «Мёртвых душ» Гоголя. В 1928 году в «Мурановском сборнике» напечатаны три статьи Дурылина, подписанные «С. Д.», в 1930-м в Москве вышла книжка «Сибирь в творчестве В. И. Сурикова».
Для души пишет «в стол» рассказ «Николин труд», хронику «Колокола», «Чертог памяти моей. Записки Ельчанинова», воспоминания об отце Алексии Мечёве, о Москве конца XIX века, стихотворение «Никола на Руси» и др. Собирался писать воспоминания о Брюсове, «но как-то расхотелось».
Продолжает и свою главную книгу «В своём углу». Шесть тетрадок из четырнадцати он напишет в Томске. Напоминающее по форме «Опавшие листья» В. В. Розанова, это произведение оригинально по выражению мыслей и самим мыслям. Тут «ума холодные наблюдения и сердца горестные заметы», — сообщает он Т. А. Сидоровой. Эту книгу Дурылин писал восемь лет. Начал в августе 1924 года в челябинской ссылке, закончил в сентябре 1932-го в Киржаче. И только в 1939 году в Болшеве подложил листки с записями бесед с Нестеровым. В 1940-х годах просмотрел тетрадки «своего угла», вписал несколько заметок-комментариев к тексту, но ничего не исправил, не изменил, оставил как документ времени. В ссылке он, оторванный от активной московской жизни, «думает, думает, думает». И вспоминает.
«Свой угол» — это место, куда можно спрятаться от внешнего мира, захватив с собой духовно родных ему людей, маму, воспоминания детства, всё, что вспомнилось, подумалось, увиделось. Это и свой угол зрения на историю литературы, на писателей и раздумья о «промысле литературы». Это размышления о белом и чёрном духовенстве, о старчестве, о славянофилах и своё объяснение отрицания Л. Толстым всего внешнецерковного в христианстве. Это тихая радость в Светлое Воскресение и «Христос Воскресе» родным могилушкам, это радость от белого пушистого снега и общение с любимым котом как с мыслящим существом. Это думы о Боге, о своём страстном желании всегда быть с Ним, ощущать Его в себе. «Я ничего не мог бы сказать полнее и точнее, если б стал писать о себе, чем сказано там», — пишет Дурылин Гениевой, отсылая ей с оказией на хранение очередную тетрадку[357].
«В своём углу» — это «запись самого пульса эпохи, неретушированная история духовных странствий человека, попавшего, вместе со всем своим поколением, под безжалостное колесо революций и войн. История одного из детей „страшных лет России“, его метаний, преодолений, обретений и потерь, его очарований и разочарований, написанная им самим с предельной искренностью». «Во многом эта книга разговор с самим собой. И о себе. Попытка понять себя, незнаемого. Осмыслить то, что с ним произошло, что свершилось в нём самом и ещё продолжало мучить и жечь своей нерешённостью и неоконченностью. И как следствие этого, в ней — перепады настроений и неоднозначность оценок, смена плюса на минус и обратно». Книга подводила черту «под самым трудным, духовно напряжённым периодом жизни Дурылина, предшествующим болшевскому, когда его жизнь круто изменила свой ход и пошла, прокладывая себе ещё одно, новое русло…». Так охарактеризовала книгу Галина Евгеньевна Померанцева — автор прекрасной вступительной статьи «На путях и перепутьях», содержащей огромный материал о Дурылине[358].
«Свой угол» предназначался лишь для себя, не для печати. Отсюда его исповедальность и отсутствие самоцензуры. Одиннадцатую тетрадь предваряет ремарка: «Не предназначается ни для одного читателя, кроме автора. Никогда никому не читано, не было читано и не будет читано. Всё равно, что не написано, всё равно, что в голове автора». И всё же через несколько страниц Дурылин делает оговорку: «..всё-таки хотелось бы, чтобы это прочитали Ирина [Комиссарова], Мих. Вас. [Нестеров], Коля [Чернышёв], Елена Вас. [Гениева], Серёжа Фудель». Вот пять человек, самых близких, которые всё поймут и всё простят. И один читатель уже есть. Все тетрадки «Своего угла» Сергей Николаевич отправляет из Томска Елене Васильевне Гениевой. Она их первый читатель и первый критик. Она же хранитель его архива в период томской ссылки. По его просьбе Елена Васильевна собрала у себя его библиотеку, рукописи и архивные материалы, часть вещей и мебели. Всё это было из-за его кочевой жизни разбросано по разным домам друзей и родственников. Даже в 1933 году книги его всё ещё разбросаны по трём городам и, по крайней мере, по десяти местам. Но всё цело, и он помнит, у кого что хранится. Теперь она его главный душеприказчик. К ней в архив он отправляет с оказией всё, что выходит из-под пера. И ждёт её всегда умных, глубоких и нелицеприятных отзывов. Рассказ «Николин труд» она подвергла критике. А «В своём углу» оценила очень высоко. «…Я не ожидала такой напряжённости боли, одиночества и обнажённости тончайших слоёв души. <…> После этого чтения слишком думается. <…> Вы не сын Василия Васильевича. У Вас совсем нет вывороченности всего наружу, Вы по-другому интимны. <…> „7 пятниц на неделе“ Вас[илия] Вас-ча для Вас не нормальное явление, а „чертогон“, который вообще не входит в Вашу обычную <…> очень тонко интеллектуальную жизнь»[359]. Дурылин благодарен ей за понимание: «Об „Углах“ моих Вы пишете так, как никто бы не сказал о них. Вы поняли в них самое главное, — и ради него простите всё боковое»[360].
В Томске Дурылин часто вспоминает Оптину пустынь, старцев. Щемящей грустью, душевной болью пронизаны его записи: