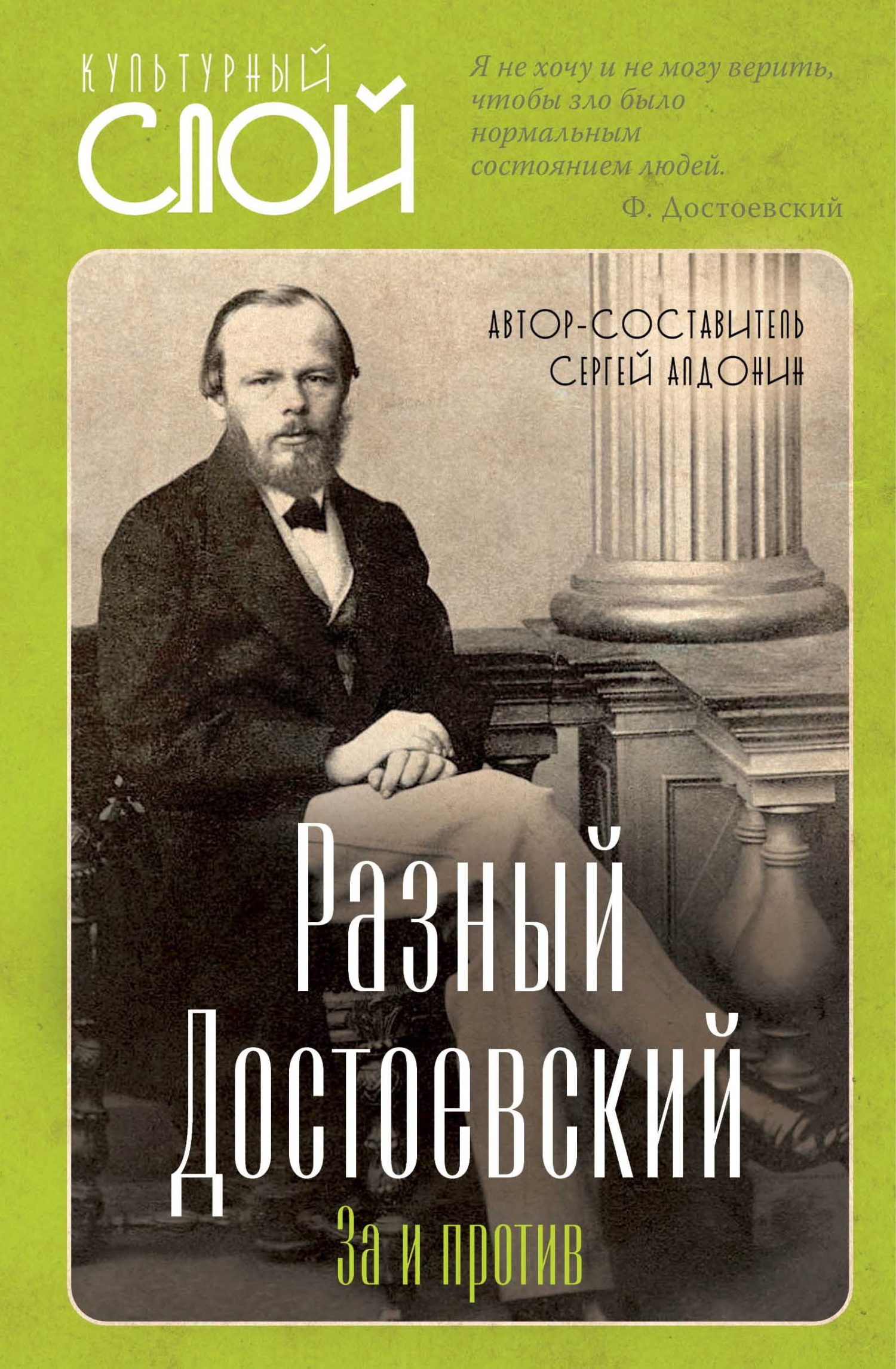есть коренной дворянин, в то время как Толстой – просто немец.
Достоевский мог в известную пору приспособляться даже к черносотенному дворянству, и тем не менее, по всему своему социальному типу и по материалу своих произведений он – мещанин.
Город, в особенности город Петербург, окружил его шквалом капитализма. Этот шквал ломал и деревню, но центр вихря находился в больших городах.
Всякий мещанин, особенно интеллигент, в ту эпоху оказывался перед лицом ожесточенной конкуренции и борьбы за карьеру, за успех. Соблазняли возможности власти и богатства, манила роскошь главных улиц и образа жизни богачей. Казались доступными и вместе с тем слишком «дорогими» самые увлекательные женщины. Мещанин тянулся к сладкому кубку жизни, но почти никогда его ожидания не оправдывались. Большинство оказалось отброшенным, опрокинутым, осужденным на серое, тусклое существование, даже на нищету, особенно мучительную для людей, обладавших большой жаждой наслаждений.
В такую обстановку попал Достоевский, чтобы сначала горько бедствовать, а потом быть выброшенным на петербургскую улицу с неуемной жаждой славы и блеска, с огромной, подвижной талантливостью и необъятной способностью страдать и сострадать.
Мы вернемся еще к некоторым физиологическим особенностям натуры Достоевского. Но сейчас же отметим, что в этом честолюбивом и больном человеке сотрясавшееся в судорогах мещанство (особенно мещанская интеллигенция) нашло своего великого выразителя.
II
Для дальнейшего понимания социального места Достоевского полезно отметить, какие вообще пути имелись тогда у мещанина, в особенности интеллигентного, для того или другого выхода из бедственного положения.
Сергей Меркулов.
Памятник Ф.М. Достоевскому в Москве
Более сильные и хищные натуры принимали мир беспощадной конкуренции как должное: они делались циниками. Цинизм играет огромную роль и у Достоевского – притом цинизм, идущий дальше проповеди Ницше о сверхчеловеке, который должен быть по ту сторону добра и зла. У Ницше, по особым социальным причинам, на которых мы здесь не можем останавливаться, сверхчеловек скован некоторым идеалом возвышенной самодисциплины. У циников же Достоевского лозунг: «Все позволено, – жри всех и все» – выдвигается голо. Так оно, конечно, было в подлинной жизни. Циник-мещанин эпохи Достоевского работал зубами, когтями и каблуками, чтобы пробиться к сладкому пирогу. И в самом Достоевском жил мещанин такого типа: конквистадор и садист.
Циник-мещанин даже тогда, когда он бывал опрокинут и попал в подполье, далеко не всегда отказывался от цинизма, но цинизм его приобретал змеиные черты, черты мрачного, свистящего нигилизма. Достоевский любил в своих произведениях прикасаться к этому ядовитому мещанскому жалу.
Совсем иное отношение к страшной действительности проявлялось у натур широкого ума, склонных к обобщениям и к практике общественного размаха. Здесь мещанство, вместе с Чернышевским и его направлением, находило выход из мещанского страдания в союзе с «народом», в утопическом социализме, который в лучших случаях (у Чернышевского, Добролюбова) доходил почти вплотную до правильного, по крайней мере теоретически, разрешения социальной проблемы. Практически эти люди были, конечно, слишком слабы: они гибли в своих преждевременных революционных попытках. Однако тем самым они спасли себя морально, делаясь светлыми предтечами дальнейшего пути человечества к разумному счастью.
Достоевский испытал на себе в величайшей степени влияние этого исхода из мещанского ада. Его взлет к петрашевцам, отдельные проблески стремления к революционной борьбе наложили печать на всю его жизнь. Даже страшный удар, нанесенный ему самодержавием, даже каторжная дисциплина не умертвила в нем голосов его революционной весны. Но она извратила пути его жизни и заставила искать для себя исхода на третьей дороге мещанства.
Этой третьей дорогой является религия.
Но мещанин-обыватель не уходил в монастырь: он ставил алтари в гуще жизненной неправды и рыночной суеты, чтобы молитвами, богослужением, свечами и кадилами, таинствами исповеди и причащения соприкоснуться с другим, лучшим миром, где, по его мнению, царят покой и свет.
Маркс говорил, что стремление несчастного человека в эту сторону отомрет только тогда, когда человечество реально победит страдания, порождаемые общественным укладом.
Достоевский с тоской и страстью примкнул к религиозному мирочувствованию.
На наш взгляд, основным аккордом всего внутреннего мира Достоевского была именно борьба между мнимым религиозным разрешением проблемы зла, в которое он сам не верил, и разрешением этой проблемы через революцию, с которой он тщетно и злобно боролся. На этом основном аккорде нам хочется остановиться подробнее.
III
Православие, при всей грубости своих догматических форм (если сравнить их с утонченной прочной католической теорией и острым духом рационалистической критики протестантизма), сыграло некоторую положительную роль для господствующих классов России не только в качестве основной формы идеологического обмана некультурных масс, но и в смысле своеобразного «ослиного моста» для самого изощренного оппортунизма людей высокой культуры, желающих найти примирение с действительностью. В самом деле – как-никак христианская религия говорила о любви, равенстве и братстве. Все это понималось абстрактно, как явление наджизненное, отчасти даже загробное, но, тем не менее, вносящее какой-то свет правды и человечности в земные отношения.
Самым приятным для господствующих классов было то, что православие, в сущности, не требовало никаких реальных реформ, вовсе не желало найти какое бы то ни было подлинное отражение в действительности, за исключением таких пустяков, как милостыня, пожертвования на монастыри и т. д. Все в жизни могло и должно было оставаться по-прежнему: православный царь, православные жандармы, православные помещики и фабриканты, православные рабочие и крестьяне. Одни – во всем блеске своих эксплуататорских функций, другие – во всем ужасе своего эксплуатируемого положения, и все в качестве «братьев во Христе», примиренных, как этого хотела православная церковь, в одной общей вере в божью правду, которая сказывается и в муках посюсторонней жизни, и в наказаниях жизни загробной.
Это хитрое в своей наивности построение, заключающееся в искании правды небесной, которая оправдывает все неправды земные и даже реально слегка смягчает их (больше на словах, а иной раз «делами милосердия»), могло служить формой примирения с действительностью для проснувшихся к острой критике умов, для сердец, начавших содрогаться при виде социального зла, которым, однако, впоследствии понадобилось парализовать свой протест или умерить его, чтобы он не привел к фатальному столкновению с господствующей силой.
Если мы возьмем, к примеру, три стадии подобного использования религии в русской литературе и выберем для этого Гоголя, Достоевского и Толстого, то получим такую градацию.
У Гоголя дело обстоит очень наивно. Припомните знаменитое место из переписки с друзьями, где он рекомендует помещикам читать Евангелие крестьянам, дабы сии, проникшись смыслом слова божия, беззаветно служили помещику и понимали, что такое служение является целью, их существования.
Я не думаю, чтобы у Гоголя не было известного изъяна, известного внутреннего сомнения, может быть хорошо скрытого, а может быть, царапавшего сознание Гоголя лишь изредка, – сомнения относительно того, действительно ли все это так и не является ли «слово божие» просто удобным для помещиков измышлением?
Прямых данных относительно этого, насколько я знаю, не имеется. Ежели кому угодно