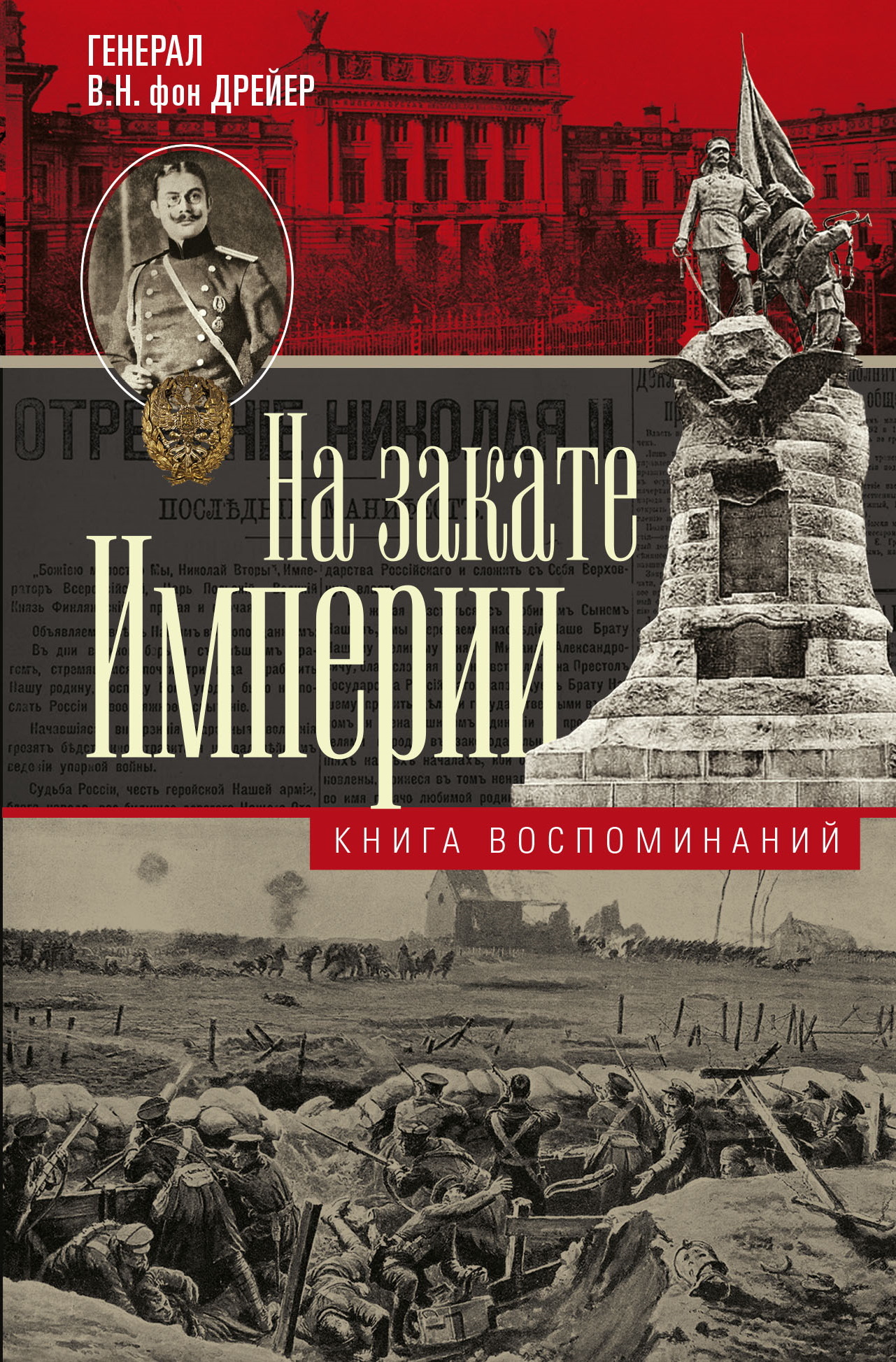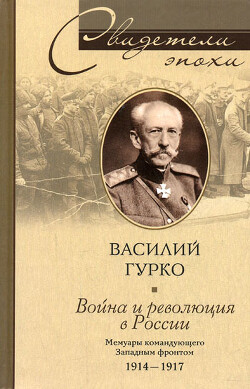что, мол, видали, какие мы стали важные и сознательные.
– Вот теперь и сидит, арестованный товарищем Керенским, кровопийца-царь во своих дворцах, – беснуется на помосте солдат. – А то ли еще будет!
– Правильно, правильно! – ревут в ответ.
Следующий прохвост, а за ним еще несколько, лезут по очереди на помост, матерятся и бесчестят своего царя.
Савельев молчит, не смея произнести ни слова, слушая, как поносят его государя и боясь уйти с этого позорища.
«Черт знает, куда меня занесло», – была первая мысль, когда мы вернулись с митинга в штаб.
– Ничего не поделаешь, – вздыхал Савельев. – Все еще шло кое-как, а тут на днях вышел этот идиотский Приказ № 1 Гучкова [123], и солдаты делают что хотят.
Много позже понял почтенный Александр Иванович, какое зло он принес русской армии этим знаменитым приказом. Но ничего исправить было нельзя, и все последующие приказы нового военного министра Керенского, призывавшего революционные войска к геройским подвигам, цели не достигли. Солдаты драться не желали, братались открыто с немцами, выгоняли, а то и просто убивали своих же офицеров, сдавались охотно в плен и требовали «литературу», которую больше крутили для махорки, чем читали.
Кое-какая дисциплина сохранилась еще в кавалерии, в некоторых ударных частях и, как ни странно, в женских батальонах. Бабы подавали пример солдатам и храбро шли в бой, неся большие потери.
Изъяв Гучкова, превратив себя в министра юстиции и военного министра, Керенский решил продолжать войну, оставаясь верным союзником французов и англичан. Считалось, что революция в России потому и была необходима, что русский император хотел якобы заключить сепаратный мир с немцами. Это думали и англичане, и их посол в Петербурге, печальной памяти Бьюкенен, серьезно приложил руку к развалу Русского государства, приведшему к революции.
Пытаясь продолжать войну, Керенский разослал в войска пропагандистов, именовавшихся отныне политическими комиссарами.
Такой комиссар прибыл однажды и к нам в Галицию. Назывался он Борис Савинков, тот самый социал-революционер Борис Савинков, что организовал убийства царских министров Сипягина и Плеве, а в Москве – великого князя Сергея Александровича.
9 млн экземпляров, широко распространен в войсках и способствовал разложению армии и упадку дисциплины. Текст приказа был коллективным творчеством Петросовета, основную роль в его создании сыграли внефракционный социал-демократ Н.Д. Соколов и меньшевик С.А. Кливанский. Но А.И. Гучков, будучи одним из лидеров Временного комитета Государственной думы и военным министром в первом составе Временного правительства, не принял мер, чтобы не допустить распространения Приказа № 1 и разложения армии.
Самоуверенный, довольно надменный, Савинков тотчас же начал собирать солдат и своим придушенным, хрипловатым голосом взывать к их патриотизму, говоря о необходимости во имя революции продолжать войну.
С митингов он возвращался в штаб дивизии обескураженный и даже обозленный. Один раз его чуть не побили.
С Савинковым этим мне пришлось довольно близко познакомиться и неоднократно потом встречаться.
Виделся я с ним в июле 1917 года в корпусе Врангеля, затем в Москве при большевиках и в 1918 году, когда он создал свою савинковскую противоболыпевистскую организацию на социал-демократической платформе. Он жил в Москве у одной дамы, в ее квартире на Собачьей площадке [124], и смело ходил по улицам в черных очках, чтобы не быть узнанным. Совершенно непонятно, как его тогда не арестовали.
Затея его кончилась Ярославским восстанием, кроваво подавленным большевиками.
В 1920 году я его встретил в Варшаве, где он жил в гостинице «Прага» и собирался что-то делать в связи с армией Врангеля, занимавшей Крым.
В последний раз я видел Савинкова в Париже в 1925 или 1926 году перед отъездом в Россию, куда его заманили большевистские провокаторы, уверившие, что сильная подпольная организация только и ждет, чтобы он приехал и ее возглавил. Мы случайно встретились на Больших бульварах и, как старые знакомые, мирно поговорили, но он ни словом не обмолвился, что уезжает в Россию.
Судьба знаменитого революционера известна. Его сразу же арестовали, посадили в тюрьму и, несмотря на все заверения, что он верой и правдой будет служить большевикам, из тюрьмы не выпустили.
Тогда он выбросился из окна. Или его выбросили.
* * *
В преддверии предстоящего генерального сражения на австрийском фронте в Галиции солдат необходимо было вывести из состояния безделья и подготовить небольшими маневрами к предстоящей героической эпопее. Ничего, конечно, из этого не вышло, но попытки делались.
Боясь утомить долгими упражнениями разленившееся воинство, я предложил Савельеву выводить на несколько часов в поле полки дивизии, стоявшие в резерве, для тренировки.
Савельев нехотя согласился, но все поручил мне, а сам оставался у себя на квартире. Он отлично понимал, что затея эта непопулярна у солдат, предпочитавших есть, пить и ничего не делать.
В течение недели все шло как будто хорошо. Солдаты выводились на маневры, наступали, стреляли, атаковали обозначенного противника. Но полковые комитеты (тогда они были уже всюду сформированы, от роты до армии включительно) решительно восстали против всяких воинских упражнений, автором которых считали нового начальника штаба.
И в один прекрасный день, вернее, ночь ближайший полк решил арестовать весь штаб, а заодно прихватить и Савельева.
В это время при дивизии в качестве конной команды разведчиков находилось около тридцати кавалеристов, все латыши, с поручиком – тоже латышом.
Была ночь, мы все спали – трое офицеров штаба в одном доме, я отдельно в другом.
Прибегает перепуганный мой денщик Молчанов, трясет меня и от страха едва произносит:
– Ваше высокоблагородие, пехота наступает на наш штаб, уже цепи близко.
В мгновение ока одеваюсь, бросаюсь в соседнюю хату, где застаю поручика-латыша и его солдат, и отдаю приказание:
– Немедленно вышлите три разъезда по пять человек против пехотных солдат. Велите зарядить винтовки и, заняв перекрестки дорог, никого к штабу не подпускать.
– Слушаюсь, господин полковник, будет исполнено.
Сам иду к своим офицерам и прошу немедленно встать, одеться и взять револьверы.
Никакого впечатления. И только старший адъютант по хозяйственной части Катценс, тоже латыш, приподнимаясь на кровати, говорит:
– Господин полковник, сдайте лучше мне ваш револьвер, тогда, быть может, и не тронут.
– Нет, револьвера я вам не отдам. Можете лежать и спать.
Выхожу на двор, жду. Проходит час, другой… Возвращается мой поручик-латыш и, смеясь, рассказывает:
– Увидели нас пехотные солдаты, остановились и спрашивают: «Чего вы тут стоите, какую сволочь охраняете, штабных?» – потом стали ругаться и ушли.
Утром стало известно, что присутствие «сильной кавалерии» так подействовало на воображение пехоты, что она не осмелилась произвести намеченную атаку и отошла. Савельев чувствовал себя сильно испуганным и, боясь повторения, предложил мне лучше уехать из дивизии.
Латыш Катценс по окончании войны, когда образовалось независимое латышское государство во главе с президентом Улманисом, занимал ответственный пост в министерстве финансов Латвии. В 1930 году он приехал из Риги в Париж для заключения какого-то договора с Францией, завтракал у меня и был полон важности, сознавая