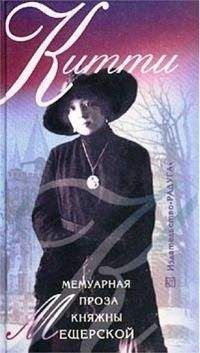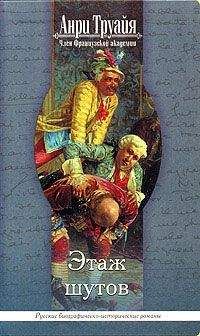И вот в эти зимние холодные мрачные ночи, глядя на нетопленый камин и дрожа от холода, мы с Валей вспоминали, как нам, детям, в «Шехеразаде» разливали этот мед в малюсенькие ликерные рюмочки. Вспоминали и о том, как перед камином, прямо на полу, на коврах, стояли новогодние подносы с пряниками, с домашней пастилой, с сушеными фруктами, с орехами: простыми, кедровыми, грецкими, американскими, с фисташками и миндалем, жаренными с солью… Вспоминали мы всякие происшествия, и наши маленькие горести и радости, и наши бесконечные шалости…
— Девочки, идите спать! — слышался строгий голос мамы…
Наша жизнь в Петровском становилась день ото дня труднее. Наше с мамой в нем пребывание ни для кого уже не было тайной.
Волисполком[1] решил прекратить «бесконечное паломничество крестьян к своим бывшим помещикам». Волисполком принял меры: кое-кого из крестьян вызвали, кое-кого припугнули, а другие, глядя на них, просто струсили, но, так или иначе, каждый из них после этой «индивидуальной обработки» сказал своей жене, что, мол, «дескать, как-то вроде несознательно с общественной точки зрения поддерживать сношение с княгиней и княжной. Хоша оне и сами по себе не вредные, но оне бывшие владельцы здешних мест, и кто будет с ими водить знакомство, будет и сам рассматриваться нашей властью как поддерживающий врагов и контрреволюцию»…
Бабы не смели ослушаться своих мужей. Но под покровом зимней ночи нет-нет да какие-нибудь из жен отваживались прибежать к нам. Они обнимали нас, целовали и утирали концом головного платка катившиеся по щекам слезы, и все они говорили приблизительно одно и то же:
— Ты живи, живи! Никто из нас тебя здесь не тронет, и мужуки наши так тебе велели передать, от нас-то тебе бяды ня будит, а вот что дальши-то с табой будит? Леший его знает… Сама видишь, время-то какое!..
Приходили к нам и глубокие старухи: те, никого не боясь, заявлялись к нам прямо днем. Это были одинокие бобылицы, те самые, которые до Октябрьской революции 1917 года ежемесячно получали от мамы установленную ею пенсию. Они не желали знать о том, что настала советская власть, и все мы были в отчаянии, когда слышали их громкие стенания:
— Неужели ты нас, ваше сиятельство-кормилица, бросишь? Неужели нам таперича с голодухи помирать? Бог с ей, с властью-то стой! На кой ляд, прости Господи, она нам сдалась? Ты, мать-княгинюшка-то, пензии своей от нас не отымай! Как же нам без пензии-то?..
Некоторые из них читали свои монологи нараспев, иные прямо начинали с того, что бухались маме в ноги.
— Голубушки мои! Вы уж меня простите, — взволнованно уговаривала их мама, — мне теперь вам нечем помочь… ведь деньги-то все в банке у меня отняты…
— Ну, ты нам тады вяшшичек каких-нибудь али чаго еще…
И, к великому отчаянию Натальи Александровны, мама отдавала все, что только в ту минуту попадалось ей под руку.
Стуча палками по полу, шурша валенками, наполняя воздух в комнатах запахом козьих дубленых полушубков, подвязанные до самых глаз теплым платком, старухи одна за другой следовали за мамой по пятам из одной комнаты в другую, громко причитая и крестясь на иконы.
А нам жилось все хуже и хуже. Теперь мы ели хрустящие, точно с песком, лепешки из картофельных очистков, которые обваливали в отрубях. Вместо чая мы заваривали кипятком сухие листья яблони, вместо сахара жевали черненькие ломтики сушеной свеклы.
В эти дни нас выручало семейство нашего железнодорожного будочника Порфирия Семеновича Борща. Его сыновья и дочери тоже служили на железной дороге, но в должности проводников. Они привозили из Малоярославца душистый, круглый, домашнего печения ржаной хлеб, немного какого-нибудь жира, а иногда и несколько пакетиков сахарина.
Подходило Рождество. Борщи сами готовились к празднику и потому предупредили, что ничего не смогут нам привезти из своего очередного рейса. Взамен этого они предложили взять кого-нибудь из нас с собой в поездку.
— Поедем мы с вами, Наталья Александровна, — решила мама, — девочек оставим дома. Я сама переговорю с Владыкиной и попрошу ее отпустить вас на несколько дней.
Сказано — сделано. Начались сборы в дорогу. Укладывали в мешки кое-что из одежды, но главным образом шелковые пуховые одеяла и подушки, как самый ходовой товар. Между ними засунули несколько небольших ручных зеркал и кое-какие безделушки.
Морозы в те дни стояли лютые. Наши друзья, все те же Борщи, дали маме и Наталье Александровне свои теплые деревенские тулупы, теплые платки и валенки.
Как необычайно веселы, как жизнерадостны и как беззаботны были мы еще в ту пору!.. Со смехом и хохотом надевали наши матери этот непривычный для них наряд, и нам казалось все это каким-то веселым маскарадом. Обе они не умели нести свои тяжелые мешки и узлы; мы им помогали, как могли. Надо было видеть, как, идя по заснеженной дороге на станцию, все мы то и дело оступались и падали в снег, и каждый раз снова и снова звучали взрывы смеха…
После отъезда наших матерей мы зажили совсем не плохо. Так как по-настоящему мы отапливали только второй этаж, в котором сами жили, то мама, уезжая, взяла с нас слово, что мы не будем лениться и будем добросовестно топить все печи. Ее забота была о нашем милом «Блютнере», который она очень любила. Мы с Валей принялись поочередно колоть дрова, разносить их по комнатам и топить печи. Воду мы тоже поочередно носили из обледеневшего колодца. Этому мы уже научились. Так же по очереди мы с ней убирали и комнаты. Если одна из нас выполняла должность горничной в доме, то другая в этот день была дворником, и ее делом были дрова и вода. Леля, которой исполнилось уже девятнадцать лет, ничего делать не хотела: она целый день валялась на диване с книгой в руках. К ее эгоизму мы привыкли, он уже перестал нас возмущать, и мы просто старались не обращать на нее внимания.
Каждый день с самого утра мы старались справиться с хозяйственными делами, и тогда у нас с Валей освобождались часы для себя. Ах, что это были за часы!.. Надев лыжи, мы ходили на них в любимых уголках парка, слушали шум родных сосен. А какая радость была проложить лыжами первый след по нетронутому сахарному снежному покрову и уйти в самую чащу парка, медленно пробираясь между стволами деревьев! Нечаянно задеть головой наклонившуюся под тяжестью снега ветку ели, почувствовать холодящую алмазную пыль на лице. Потом увидеть, как сумерки лиловатой тенью окрасят лыжный след, и, подняв голову к небу, заметить первую затеплившуюся на нем звезду. А вот за ней и вторая, и третья, и четвертая… Небо стало темным-темным, почти черным, и звезд высыпало так много-много… Это пришел вечер. Пора возвращаться домой.