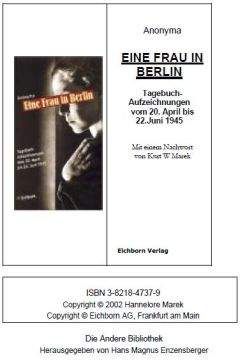Следующим утром около 10 часов в мансардной квартире. Примерно до 4 часов мы выждали в подвале. Только что я вскарабкалась наверх под крышу, суп из корнеплодов на унылом газе согревал меня, снимала кожуру с картофеля, варила моё последнее яйцо. Странно, сколько вещей я делаю теперь в последний раз, это значит в последний раз, на неограниченно долгое время. Откуда новое яйцо должно было теперь прибыть ко мне? Откуда духи? Итак, я поглощаю это с наслаждением, очень осознанно, очень благоговейно. Позже я заползла охотно в кровать и спала до беспамятства в беспокойном сне.
Снова под крышей, 14 часов. Снаружи народ толпилась, точно там что-то распределяют. Теперь у нас есть что-то вроде устной почты. Всё, что обсуждают.
Мы получаем паёк, как официально сообщается, а именно, мясо, колбасу, продукты питания, сахар, консервы и суррогатный кофе. Я занимаю очередь, простояла под дождём 2 часа и получила, наконец, 250 граммов крупы, 250 граммов овсяных хлопьев, 2 фунта сахара, 100 граммов суррогата кофе и банку кольраби. Отсутствуют мясо и колбаса, и кофе в зёрнах. У мясника в угловом доме толкотня, по обеим сторонам бесконечная очередь, под ливнем. В моей очереди шелестит слух: Кепеник сдан, деревня Вюнс занята, русские стояли в Тетлов - канале. Ни одна женщина, впрочем, больше не говорила "об этом".
Я чувствую себя липко и противно после подобных разговоров в очередях, когда опускаются невольно и форма и содержание, когда все купаются в массовых чувствах. И всё же, я не хочу ставить внутри себя заборы, хочется отдавать себя массово-человеческому, хочется переживать, хочет участвовать в этом. Борьба между высокомерным обособлением, в котором большей частью проходит моя частная жизнь, и желанием жить инстинктом как другие, принадлежать к народу, переживать историю.
Что я могу ещё сделать? Я должна пережить это. Зенитная пушка и артиллерия ставят акценты в нашем дне. Иногда я желаю, что бы всё уже миновало поскорей. Странное время. Жить в истории самой, видеть вещи, о которые позже нужно будет говорить. Но вблизи это превращается в бремя и страхи. История очень надоедлива.
Завтра я хочу найти крапиву и притащить сюда уголь. Новые маленькие запасы отделяют меня от голода. Меня они беспокоят так же, как империи - сокровища. Они могут испортиться, могут быть украдены, мыши могут лишить меня их. Наконец, я разместила весь хлам в коробке в подвале. Всё же я могу ещё носить всё моё земное владение по лестнице вниз и вверх.
Поздний вечер, сумерки. Я снова посетила госпожу Гольц. Её муж сидел у неё, в пальто и шали, так как в комнате было холодно и сквозило. Оба безмолвные и придавленные. Они больше не понимают мир. Мы едва разговариваем. Снаружи всё время жестяной треск. Иногда тугие удары зенитной пушки, как будто бы гигантские ковры выбивались между небом и землёй.
Эхо выстрелов гуляет во дворах. Впервые я осознаю слово "канонада", до сих я слышала о "львиной храбрости" и "героической груди". Однако, слово действительно хорошее.
Снаружи мелкий дождь и ветер. У входной двери я заметила проходящую кучку солдат. Некоторые хромали. Безмолвно, каждый сам по себе, они шли рысью без строя. Лица колючие и истощённые, на спине тяжёлый багаж.
«Что случилось?», - я кричу, - «Где бои?»
Никто не отвечает. Один ворчит непонятное. Один отчётливо говорит себе под нос: «Приказывай вождь - мы идём за тобой на смерть».
Их можно только пожалеть. Ждут ли от них чего-то или от них уже совсем ничего больше не ожидают. Даже сейчас они выглядят побитыми и загнанными. На нас, стоящих у бордюра, они останавливают тупой и безжизненный взгляд. Мы, народ и гражданские жители Берлина, для них надоедливы и им безразличны. То, что они стыдятся своего вида, в это я не верю. Они слишком отупели и устали для этого. Побеждённые. Я даже не могу на них смотреть.
На стенах липко размазанные известковые буквы, которые должны руководить, по-видимому, войсками и направлять к каким-нибудь местам сбора. Куски картона, с надписью красным и синим карандашом с обведёнными словами «Гитлер» и «Геббельс». Один плакат предостерегает от капитуляции и угрожает повешением и расстрелом. Другой озаглавлен «Требования к жителям Берлина», предостерегает от оккупантов и просит всех мужчин, чтобы они боролись. Листки вообще-то не бросаются в глаза. Ручные каракули выглядят так жалобно.
Да, техника избаловала нас. То, что мы не обслуживаемся ротационной машиной или через динамики, кажется нам убогим. От руки написанное или просто сказанное - чем это может быть?
Наша техника девальвировала действие речи и письма. Отдельный визг, вручную нарисованные плакаты, 90 тезисов у церковной двери в Виттенберге, с этого начинались ранние народные восстания. Для нас всё сегодня должно доходить более солидным, круги должны двигаться, должны работать размножающие аппараты, чтобы всё это действовало.
В подвале, 22 часа. После вечернего супа я позволила себе небольшой постельный режим наверху, потом сбежала рысью вниз. Община подвала уже была собрана полностью. Сегодня небольшой обстрел и, хотя уже время для этого, до сих пор никакого воздушного налёта. Нервное веселье заканчивается. Циркулируют всяческие истории. Госпожа В. кричит: «Лучше Russki на животе чем янки на голове».
Шутка, которая довольно плохо подходит её траурному крепу. Фрейлейн Бен каркает на весь подвал: «Давайте быть честными, мы, пожалуй, все уже не девушки».
Она не получает ответ. А я обдумываю - кто. Невинный вид младшей дочери швейцара, которой лишь 16, и которая сильно охранялась после проступка её старшей сестры. И, определённо, если судить по лицу, та девушка, восемнадцатилетняя Штинхен, которая мирно дремлет. Сомнительной мне кажется девушка, которая выглядит как молодой человек. Но это, пожалуй, особый случай.
Сегодня новая женщина в нашем домашнем подвале, она всегда шла сюда, на 6 домов дальше чем к общественному бункеру, который считается надёжным. Она живёт одна в своей квартире, как будто бы овдовевшая, покинутая или разведённая, я ещё не знаю. По её левой щеке тянется гнойная экзема. Она сообщает шёпотом, достаточно громко, что она спрятала по-походному своё обручальное кольцо в резинке её трусов на себе. «Если они доберутся туда, то кольцо мне будет уже безразлично».
Общий смех. Всё-таки гнойные экземы на лице могли бы и защищать от таких переживаний.
Понедельник, 23 апреля 1945 года, на 9 часов раньше.
Поразительно спокойная ночь, едва слышно зенитную пушку. Новый гражданин подвала появился, мужчина, пострадавший от бомбёжки, женщина из разбомбленного Адлершоф, которая перебралась сюда к матери. Мужчина прибыл в форме и под шумок, надел через час краденое штатское платье. Зачем? Никто не говорит об этом, никто не уделяет ему внимание. Обваренный фронтовик выглядит ещё довольно сильным, долгожданным для нас. Как-то дезертирство кажется уже естественным, прямо-таки благоприятным. Я должна задуматься о 300 спартанцах Леонида, которые стояли в Фермопилах и погибали, как закон требовал. Мы учили это в школе, нам велели восхищаться этим. Может быть, что тут и там 300 немецких солдат ведут себя так же. Но 3 млн. не делают это. Чем дальше, тем более всё случайно, тем более незначителен шанс для вычитанного в учебниках героизма. Для нас, женщин, также нет смысла в этом. Мы благоразумны, практичны, оппортунистки. Мы для живых мужчин.