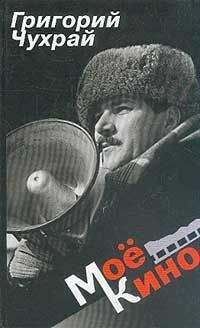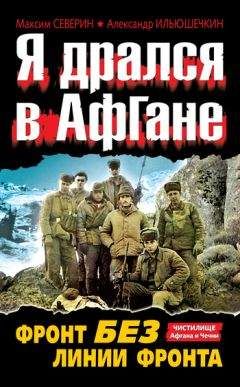Разочарование в мастере оказалось для меня тяжелым ударом. Я пытался восстановить свое былое отношение к Сергею Осиповичу. «Люди сложны, – убеждал себя я, – нельзя делать выводы на основании нескольких слов. У Сергея Осиповича есть несомненные достоинства, а недостатки есть у каждого».
Но как я себя ни уговаривал, прежнего восторженного отношения к мастеру не появлялось.
Его слова о «ключике» и о «чуть-чуть» теперь казались мне пустыми, лишенными содержания. «Шаманство, – говорил я себе. – Красивые на первый взгляд слова, но не что иное, как литературное шаманство».
Я по-прежнему признавал за ним много достоинств. «Он – человек больше теоретического, чем творческого склада. Хорошо пишет и многое знает. Я должен быть ему благодарен: он принял меня во ВГИК. И не мне его осуждать...» Но истина дороже, и могу сказать, что был он человек холодный и в искусстве, и в жизни. Фильмов его я не любил.
Профессор Боханов преподавал нам композицию кадра. До революции он был отличным фотографом, и предмет свой чувствовал очень тонко. Теперь это был старичок, одиноко живущий в своей однокомнатной квартире, полной рисунков, фотографий учеников и иллюстраций картин знаменитых художников. Всего этого было так много, что оно не умещалось на полках его библиотеки и аккуратными стопками лежало на полу. Между стопок образовались узкие проходы, по которым передвигались сам Боханов и его гости, – от двери к столу и от стола к кровати. Я несколько раз бывал у него дома и балансировал на этих дорожках. Жены у Боханова тогда уже не было, а может быть, не было и вообще. Во всяком случае, я нигде не замечал следов присутствия женщины. Тем более странно было видеть, что Боханов красил волосы. Может быть, для того, чтобы не выглядеть очень уж старым. Краска линяла и под ней обнаруживалась седина.
К нам Боханов относился требовательно. Посмотрит, бывало, на работу какого-нибудь ученика и скажет нараспев:
– Вы думаете, что это гениально, а это глупо.
Мы не обижались на старика. Был он добрый и беззащитный.
Боханов очень переживал из-за того, что не может наполнить свои лекции идеологическим содержанием, от него этого требовало начальство. Но он прилежно старался. Однажды изрек формулу, которая, как ему казалось, отвечала идеологическим нормам и подходила к его предмету.
– Товарищ Сталин сказал: «Кадры решают все», а в нашем деле кинокадры решают все.
Это была не острота. Это был способ его мышления. Разбирая композицию живописной картины Ярошенко «Всюду жизнь», он говорил так:
– Мы видим вагон. На окнах решетки. Мы понимаем, что это арестантский вагон. Люди, стоящие около окна с решеткой, – заключенные. Все они с интересом смотрят куда-то вниз. Там голуби клюют крошки хлеба. Как расположены голуби? Они образовывают тесный или узкий круг. У этих арестантов узкий круг интересов. А там, в глубине вагона, стоит арестант. Лица его мы не видим. Он стоит к нам спиной, но смотрит он вдаль. У него широкий круг интересов. Широкие горизонты. Он революционер.
Мы понимали, что это чушь, но не сердились на Боханова, сочувствовали и даже любили его за те действительно ценные советы по композиции, которые от него получали.
Однажды он дал нам задание: сфотографировать социальный портрет (рабочего, крестьянина, интеллигента и т. д.)
Я снимал натурщика – он вполне сходил за крестьянина, хотя и был коренным москвичом. А студент Ленциус, – кажется, Ленциус – пригласил на съемку настоящего генерала. Боханов зашел в его кабину проверить, как ставится свет, увидел генерала и опешил.
– Что это? – удивился он.
– Генерал, – ответил Ленциус.
– Это, по-вашему, генерал?! – возмутился Боханов. – Посмотрите на его лицо: ни интеллекта, ни мужества. Какая-то пьющая баба!
Генерал не выдержал такого кощунства, поднялся и покинул кабину.
– Это настоящий генерал, – прошептал Ленциус.
– Как? – не понял Боханов.
– Настоящий, не натурщик! – И Ленциус, выбежал вслед за оскорбленным генералом.
Только теперь Боханов осознал, что произошло, и схватился за свою седую с полинявшей краской голову.
Это был маленький, неуверенный в себе человек. Все в нем было мелкое, случайное, боязливое. Он преподавал нам музыку. Его гордость составляло воспоминание о том, что в юности он сочинил пионерскую песенку.
Здравствуй, милая картошка,—
Тошка, тошка, тошка! —
Низко бьем тебе челом.
Даже дальняя дорожка —
Рожка, рожка, рожка! —
Пионеру нипочем...
Чем богаты, тому и рады.
Отличительной чертой Шухмана было неумение сосредоточиться на предмете. Мысли его прыгали, как воробышки в летнее утро, с ветки на ветку. Он начинал говорить, скажем, о Скрябине, перескакивал на тему о болезни своей жены, потом опять о Скрябине, а потом об Узбекистане, где он был во время войны в эвакуации. Но тем не менее его, с позволения сказать, лекции были для нас желанны. Причиной этого была его пианистка Олечка Жукова. Она неплохо исполняла многие классические произведения. А я, который никогда не слышал их «живьем», не по радио и не урывками, – во время ее исполнений испытывал благодарное чувство.
У Шухмана было два горя, которыми он с нами постоянно делился: больная жена и паспорт. У жены была больная печень. А в паспорте – неправильно указана национальность.
Дело в том, что в эвакуации в Узбекистане при обмене паспорта на вопрос «национальность?» Шухман, вместо того чтобы сказать «еврей», ответил:
– Иудей.
Почему ему пришел в голову такой ответ, неясно. Может быть, хотел придать своей персоне больший вес. Может быть, боялся начавшего поднимать голову антисемитизма. Во всяком случае, это была его роковая ошибка. Девушка-паспортистка никогда не слыхала о такой национальности. Когда много позже он заглянул в свой паспорт, там в графе «национальность» было написано «индей».
– Я объяснял в паспортном отделе, что я не индей, а еврей. А начальник паспортного отдела, узбек, отвечал: «От своей национальности отказываешься. Нехорошо!» Какой-то кошмар! – возмущался Шухман. – Индей! Это же глупо! Такой национальности нет!
Надеялся на Москву. Там разберутся и все исправят. Но и там не хотели ни в чем разбираться.
– Мы национальности не изменяем.
– Везде бюрократы! – сокрушался Шухман.
– А что плохого? – подшучивал Вова Басов. – Единственный неповторимый во всем мире представитель нации индеев! За такую удачу надо платить, а вам это бесплатно досталось.
– Вам смешно, – грустно говорил Шухман, – а мне не смешно. Нельзя ничего доказать. Такой национальности нет.
Шухману было нелегко быть единственным на планете Земля индеем. Несколько месяцев длилась тяжба между паспортным отделом и Шухманом. Но в конце концов здравый смысл победил. Шухман пришел на занятие радостный, потряхивая над головой новеньким паспортом. Все мы бросились его поздравлять. Вова Басов захотел подержать в руках документ и порадоваться вместе с Шухманом исправлению. Он осторожно взял из рук педагога драгоценный паспорт, заглянул в него... и раскрыл рот от удивления. Потом разразился хохотом. В паспорте в графе «национальность» теперь значилось: «еврей, из индов».